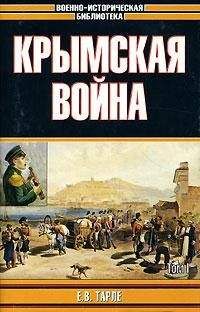В начале 1794 г. бюро пишет циркуляр ко всем агентам, считая, значит, его содержание относящимся ко всей Франции, и вот как этот циркуляр начинается: «Мы узнали, гражданин, что закон о максимуме не исполняется в твоем округе» и что не исполняется он в самых существенных пунктах; бюро признает, что там, где закон этот плохо исполняется, «царит изобилие», а страдают именно те округа, где закон исполняется лучше. За этим любопытным признанием следует квалификация этого факта как «злоупотребления, имеющего опасные последствия», а посему агенту предлагается принять меры против этого «беспорядка»; рекомендуется «удвоить усердие» в охране интересов народа и подавлять усилия «злонамеренных» и эгоистичных людей всеми мерами [73]. Но эти меры оказываются совершенно бесплодны. Загромождать дальше эту главу бесчисленными выдержками из указанных регистров было бы совершенно излишне.
Итак, голый факт установлен незыблемо: закон о максимуме потерпел полную неудачу, несмотря на то, что правительственная власть, искренним и живейшим образом желавшая его исполнения, была вооружена самыми грозными средствами репрессии и ежедневно прибегала к смертной казни за малейший намек на сопротивление или даже за простую словесную оппозицию, за неосторожное слово, вырвавшееся в кругу семьи и подслушанное доносчиком. Далее, не только щедрые награды были обещаны, как мы видели, доносчикам, которые раскроют нарушение закона о максимуме, но и по существу дела, казалось бы, немыслимо было укрыться от кары: ведь в 1793–1794 гг. Франция была покрыта сетью «революционных комитетов», «наблюдательных комитетов» и других официально признанных местных организаций, не говоря уже о филиальных отделениях якобинского клуба, и члены этих организаций зорко следили за всей местной жизнью, постоянно донося властям о всем, что казалось им законопреступным или даже просто подозрительным, и арестовывая виновных. При этих условиях и речи не могло быть о слабости или фиктивности надзора. Весьма редки бывали в истории такие всесильные de jure и de facto правительства, как Конвент; весьма редко они так решительно и сурово пользовались своим могуществом, как Конвент в 1793–1794 гг.; немного было законов, которым Конвент придавал бы такое огромное значение, как закону о максимуме, и в результате полная неудача, констатируемая не только непререкаемыми официальными данными, но и всеми показаниями современников.
Какова же причина? Официальные данные говорят о злонамеренных лицах, преступниках, вероломных врагах народа, которые своими кознями и злоупотреблениями мешали осуществлению закона. Кто же такие все эти «malveillants, criminels, perfides» и т. д.? Назвать их по имени — значило казнить их, и кого можно было назвать, тех и казнили. Но в том-то и было дело, что против закона о максимуме боролся могучий, неуловимый и анонимный враг, с которым ничего нельзя было сделать: весь уклад экономической жизни европейского человечества в конце XVIII столетия. Отъединить Францию от Европы герметически, наглухо, так полно, как в гневе своем желает отделить Москву от Литвы пушкинский Борис Годунов, было абсолютной невозможностью даже для всесильного Конвента, а без этого закон оказывался парадоксом. Товары должны были всякими правдами и неправдами стремиться за границу, где за них платилась не фиктивная, а рыночная цена и притом не фиктивными ассигнациями, а звонкой монетой; а там, где этот сбыт за границу становился совершенно уже невозможным, там выгоднее было под каким угодно предлогом сократить или прекратить производство; хотя за прекращение производства без достаточных мотивов и грозила тоже кара, но, например, банкротство являлось мотивом, конечно, непреложным и уважительным, и в большинстве случаев этот мотив, разумеется, был вполне реален. Далее, если в отношении вывоза правительство и очень хотело бы, да не могло сделать границу непроходимой стеной, то, напротив, для ввоза иностранных товаров оно готово было распахнуть настежь дверь во Францию; но нечего, конечно, распространяться, почему закон о максимуме делал нелепой всякую надежду на возможность ввоза. Идти на верное и безусловное разорение, подчиняясь фиктивным, искусственным ценам, или подвергаться смертельной опасности, исподтишка стараясь нарушить эту максимальную таксу, — таковы были перспективы, ожидавшие иностранного купца, приехавшего с товаром во Францию.
Итак, производство неминуемо должно было сократиться, товары имели тенденцию выйти из страны, ввоз из-за границы был немыслим. Противоречие между ценами «максимальными» и ценами, которые установились бы на рынке, не будь этого закона, становилось все разительнее, и тут выступало второе обстоятельство, сделавшее закон о максимуме парадоксом. Конвент не только не уничтожил частной собственности, но даже много раз подчеркивалось уважение к этому принципу во время обсуждения закона о максимуме. Тем не менее при полном господстве принципа частной собственности и — eo ipso — неравенства в обладании денежными средствами, то, за что закон так беспощадно карал, скупки становились совершенно неизбежными. Речь шла со стороны покупателей о том, чтобы обменять возможно больше и возможно скорее совсем обесцененные ассигнации на предметы потребления, всегда сохраняющие реальную ценность, а со стороны продавцов, — конечно, получить больше той иллюзорной цены, которую назначал закон, не считавшийся ни с издержками производства, ни особенно с обесценением ассигнаций (ведь, как мы видели выше, за одни разговоры о падении ценности ассигнаций людей неуклонно подвергали смертной казни). И если не всегда могли обойти закон профессиональные торговцы, зато на их разорении наживались посторонние лица, за которыми надзор был послабее и которые занимались тайной торговлей, но все равно результат был один: потребитель редко где и едва ли не в виде исключительной удачи получал то, что ему было нужно, за цену, определенную «максимумом». Средств борьбы у продающего было в распоряжении много: от сокрытия товара до предложения товара попорченного; уловок для видимого обходы закона было тоже немало (вспомним вышеприведенное донесение, где говорится о взятках, которые покупатель должен давать продавцу).
Вот главные условия, превратившие, как выразился один агент, закон о максимуме в «пустое слово». Утопией был бы план произвести во Франции 1793–1794 гг. коренной экономический переворот на основе уничтожения частной собственности; не неменьшей утопией было делать такие эксперименты, как с законом о максимуме, оставляя незыблемыми самые основы хозяйственной жизни как Франции, так и всей Европы. Вот почему смерть потеряла тут свое жало, и гильотина оказалась бессильной.
После падения Робеспьера стало возможным заговорить вслух об отрицательных сторонах максимума.
Что закон о максимуме в высшей степени произволен в самой основе своей и разорителен для торговцев, — это понимали, собственно, и власти, непосредственно призванные осуществлять его; их тревожила не участь представителей торговли, а сокращение числа лиц, которые решались заняться этим опасным делом. Уже через две недели с небольшим после падения Робеспьера центральное бюро по делам о максимуме так изъяснялось в письме к своему руанскому агенту [74]: «Прежде всего с принципиальной точки зрения бесспорно, что, так как закон от 29 сентября 1793 г. положил в основу максимума цену 1790 г. с прибавкой на одну треть, уклоняться от этой основы нельзя; тем не менее Конвент, налагая узду на алчность, не желал чинить препятствия торговле и вредить купцу, который ограничивается честной прибылью», а посему бюро сообщает, что Комитет общественного спасения согласен рассмотреть те проекты облегчения участи торгового класса, какие будут ему представлены. Но стоило террору вообще ослабеть после падения Робеспьера, стоило печати получить хоть какую-либо возможность высказываться, и жалобы на закон о максимуме посыпались со всех сторон. Публицисты, писавшие о максимуме после 9 термидора, осуждают его единогласно: ни в Национальной библиотеке, ни в Архиве, где собрана масса брошюр, писавшихся в эпоху революции (в так называемой серии Rondonneau — AD), мы не нашли в пользу максимума ни единой строки, которая была бы написана после падения Робеспьера (если не считать Бабефа, о чем см. в главе VI). «Должен ли быть сохранен закон, наименьший недостаток которого заключается в том, что он абсолютно ниспровергает самое священное право свободы торговли, всякое почтение к собственности, должен ли быть он сохранен, несмотря на вызванные им злоупотребления?» — спрашивает один из публицистов [75] и, конечно, отвечает отрицательно. Публицистика констатировала также, что когда этот закон был издан, магазины, фабрики, мелочные лавки были взяты чуть не штурмом, товары расхватаны за одну треть и одну четверть своей стоимости, и хотя Конвент обещал вознаградить за это, но ничего не дал, «да и был прав», ибо не хватило бы и миллиарда [76]. Цены за товары затем платились в 5 и 6 раз больше, чем следовало, ибо начались злоупотребления: торговлей занялись «слуги, носильщики, хозяева гостиниц, парикмахеры», словом все, кому было не лень, кроме только настоящих профессиональных торговцев, за которыми был строгий надзор; а эти новые, потаенные торговцы благополучно наживались. Агенты администрации тоже оказывались весьма часто (один публицист даже говорит: «всегда») [77] недобросовестными и наживались на почве этих злоупотреблений. Эти злоупотребления вошли в правило; например, колониальные товары, привозимые во французские порты, там же скупались и перепродавались по неслыханной цене: хлопок согласно максимуму покупался по 230–240–250 ливров за квинтал, а перепродавался по 1200–1600 ливров, а в тех департаментах, где были хлопчатобумажные фабрики, он продавался и по 1800, 2000, 2200 ливров за квинтал, т. е. почти в 10 раз дороже «законной» цены. То же самое наблюдалось и относительно продуктов, добываемых и обрабатываемых внутри страны, и, конечно, «гораздо менее страдал от этого зажиточный гражданин, который мог переносить это повышение цен, сокращая свои другие расходы, чем человек, доход которого ограничен, например рабочий, живущий своим ежедневным трудом, бедная мать, обремененная детьми, нуждающийся человек, который ничего не ест, кроме хлеба, но именно поэтому должен потреблять хлеба больше». Так оценили современники закон о максимуме, едва только стало возможно высказаться против него, не рискуя немедленно погибнуть на эшафоте. Кожевник Дерюбиньи, сидевший при старом режиме в Бастилии, человек, преданность которого делу революции была выше сомнений, тоже принял участие в публицистическом походе против закона о максимуме, который он называл главной причиной упадка торговли и промышленности [78], и вместе с тем, как и другие, он подчеркивал невозможность провести эту меру целесообразно.