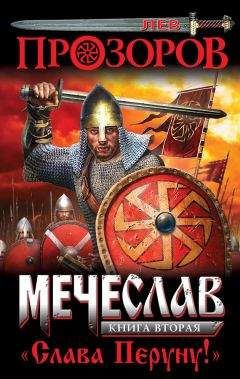И когда свет пасмурного дня, для глаз навьего почти нестерпимо-яркий, заслонило каменное ядро, он успел подумать только: «Жаль» …
А камни летели. Летели и падали.
Чурыню било на его кресте, било страшно. Что-то испуганно кричали соратники снизу, о чем-то спрашивал Роман, ворвался и убежал чужак в чёрном. Это он хотя бы видел – хотя слышать уже ничего не мог. Потом накатила тьма.
Сквозь неё, как сквозь сон, почувствовал, как отцепляют от креста запястья, перевязывая толстенной веревкой, как в обвисшее тело упираются острия копий. Выволокли во двор. Тьма перед глазами медленно расходилась.
Зря. Лучше б не расходилась, лучше бы он так и остался в той тьме.
Воевода лежал на снегу. Вместо груди – страшная вмятина-чаша, полная крови. И дивно спокойное лицо, сомкнутые веки, стальная борода, сталью отливают рассыпавшиеся волосы. Из стиснутой руки так и не выдрали рукоять широкого кривого клинка c иззубрившимся в сече лезвием.
Как сквозь сон услышал голос спрашивавшего о чем-то Батыя. Словно на том же невнятном языке окликали сзади соратники. Чёрные нукеры попятились, сторожа наставленными копьями каждое его движение.
Чурыня упал на колени.
Всё.
Это всё. Если б хоть трое наших остались на ногах – он не лежал бы здесь.
Чурыня-черниговец поднял голову. И увидел, как расступаются тучи.
Самое время. Он даже не стал закрывать глаз, готовясь подставить лицо беспощадной белизне.
Ничего не случилось. Зимнее солнце больше не слепило. Не жгло.
Ты больше не нежить, Чурыня. Ты не навий.
Ты рад?
И тогда он заплакал.
Что-то снова прозудел над ухом толмач, и осмелевший нукер шагнул вперед, ударить непонятливого пленника древком копья, но движение руки Джихангира остановило его, принудив с поклоном отступить.
Нет смысла бить пленного мангуса – или уже бывшего мангуса?
И так все ясно.
– Хороший пир он устроил нам, Непобедимый, – сказал Джихангир, не оборачиваясь. – У нас не хватит войска, чтобы идти дальше. Надо поворачивать на полдень, к степи.
– Да, о Повелитель… – Пёс-Людоед угрюмо кивнул. Действительно, пора возвращаться. А жаль, о большом городе на полуночи пленные рассказывали много завлекательного… но войска действительно осталось мало. Слишком мало. Пожалуй, только и хватит, чтобы добраться до степи живыми – и не настолько слабыми, чтобы в Каракоруме сочли, что улус Джучи стал легкой добычей.
– Тысячники. Сиятельные братья мои, – без выражения проговорил Джихангир. Названные приблизились. Брезгливо ступал Хархасун, Гуюк, уже начавший отмечать победу, двигался валкими, неверными шагами, за ним шел Орду, затем – остальные Сиятельные ханы и тысячники – уцелевшие в битве и новоназначенные.
– Смотрите! – сказал Джихангир, протягивая руку к лежащему у его ног богатырю. – Смотрите, как надо быть преданным своему Повелителю! Этот человек ради своего уже мёртвого хана стал колдуном, научился поднимать мёртвых, отдал свою душу тьме! Кто из вас способен на такое ради меня?! Вечное Синее Небо, почему у меня нет такого воина? Клянусь, я держал бы его возле самого сердца…
В голосе Джихангира прозвучала лютая, как здешняя зима, тоска. Он замолчал. Молчали и слушавшие.
– Где назвавшийся Анапосопосом? – равнодушно вопросил в пространство Джихангир.
– Слуга Повелителя здесь.
– Подойди к нам. Какой награды ты желаешь за помощь?
Тот, Кто Без Лица, приблизился.
– У народа слуги моего Повелителя есть три сильных врага. Народ сельджук и народ болгар отняли наши земли. Народ франков – вы зовете его ференги – отнял наш самый главный город. Ничтожный слуга не мечтает ни о чем, кроме того, чтоб всем этим врагам было нанесено столько ущерба, сколько сможет несокрушимое воинство Повелителя. Твой полководец, возможно, поведает тебе, если еще не поведал – награда, которой осмеливается просить ничтожный, велика, но соразмерна…
– Мы подумаем, – тем же безразлично-усталым голосом посулил повелитель и повернулся к белому скакуну, у стремени которого четверо синих нукеров уже сложились в живую лестницу.
– Что прикажет мой Джихангир делать с пленными?
Повелитель замер на середине восхождения. Все – кроме разве что склонившихся под ногами Повелителя нукеров – уставились на того пленника, кто привел их сюда. Бывший мангус сидел рядом с телом мертвого вождя, равнодушный ко всему, даже к шипящему звуку, с которым за его спиной наполовину покинула ножны сабля синего нукера.
– Мы оставляем им свободу и жизнь. Пусть похоронят своего предводителя по своему обычаю.
– Внимание и повиновение! – склонил голову Пёс-Людоед. Если Повелителю угодно оставить этих пятерых в живых, что ж – пятеро уже не представляют угрозы для тысяч. Даже мангус, похоже, лишился колдовской силы. Непобедимый проследил, как синий нукер разрезал стягивавшие запястья пленника кожаные ремни. Тот остался почти безучастным, только что растер запястья, но головы так и не повернул.
К Чурыне подошли те, что были воинами в его дружине. Роман положил руку на плечо, усевшись рядом. Подошел, нетвердо ставя всё еще слабые ноги в кабаньих поршнях, Налист, которого с двух сторон поддерживали Игамас и Перегуда…
Коловрат открыл глаза. Серое низкое небо сыпало снегом.
Жив, что ли? Коснулся груди, туда, где ударил камень.
Цел. Ни раны, ни крови.
Превозмогая боль, сел. Огляделся.
Вокруг простиралась снежная долина. Не было тел врагов, не было тел сторонников. Рядом завозился, поднимаясь, Догада, за спиною хрустнул снег под чьими-то ногами. Воевода не оглянулся. Он смотрел туда, где заснеженную долину рассекала чёрная полоса незамерзшей реки. За рекою темнел ельник – насколько хватало глаз.
У реки появились человеческие фигуры – отсюда не разобрать, кто. И по черной глади реки к ним сразу мелькнула лодка. А потом отошла назад, к лесу, от вновь опустевшего берега.
– Ну что, воевода, туда нам, что ли? – спросил подошедший Златко.
Воевода не успел ответить. Рядом заржали кони.
Они стояли рядом с дружиной, поднимавшейся со снега. Вороные статные красавцы. Только со спин свисало что-то, показавшееся сперва седельными торбами. Стоявший ближе всех жеребец вновь заржал – и «торбы» распахнулись парусами кожистых крыльев. В раскрытой пасти коня блеснули волчьи клыки.
– Ай да коняшки! – восхитился за спиной Златко. – Нам бы таких, когда с погаными рубились!
– В отроках вы у меня уже отслужили. Пора пришла и коней получить.
Из-за табуна крылатых жеребцов показался Хозяин. Здесь он не казался старцем – скорее, муж в самом возрасте, в косматой шубе, в богатой шапке. Только одинокое око знакомо отсвечивало волчьим янтарем.
– Погоди, Хозяин! – Коловрат вскинул руку. – Не рано ли? Мы не успели…
– Ты позабыл, чего просил у Меня на Пертовом угоре? – брови Хозяина нахмурились. – Разве ты просил избавления от чужеземцев? Или победы? Ты просил мести. Мести за свой город. Каждый из жителей вашего города отомщен, и не раз. Это всё, что Я обещал.
– Не всё, Хозяин… – тихо проговорил воевода.
Хозяин гулко вдохнул:
– Да помню. Не поверишь ведь, пока не увидишь… Твое счастье – сегодня день сравнялся с ночью, Мои владения сходятся со Светом. Гляди!
Хозяин глубоко вздохнул – и протяжно, жарко выдохнул в сторону берега. Там, куда ушел его выдох, серое небо и белая равнина словно подернулись рябью – или запотели. А Хозяин, зажав край косматого рукава пальцами, предплечьем провел по этой ряби, словно стирая иней с замерзшего стекла. И там, где прошелся мохнатый рукав, серое небо и белая земля исчезали. В прореху лился золотой ласковый свет – какой бывает летом к вечеру, перед закатом. Там стоял яблочный сад, и ветви кипели белизной – живой благоуханной белизной. Там тысячи цветов покрывали землю сплошным почти ковром. Там двое мальчишек играли в цветах с причудливым зверем – телом как длиннохвостая рысь, но с огромными птичьими крыльями и орлиной головой. И на их игры смотрела, улыбаясь, женщина, прядущая под деревом пряжу.
Воевода, не смея вдохнуть, протянул руку.
Рука наткнулась на прозрачную твердыню. Словно стена чистейшего горного хрусталя заслоняла Сад от заснеженного Берега.
Но женщина что-то почувствовала. Завертела головой, как будто ища.
Увидела.
Встала, не заметив упавшей в цветы прялки.
Подошла.
Воевода хотел что-то сказать, но гортань свело. Получалось только улыбаться. Кривой, дрожащей улыбкой.
«Ты… это ты, – сказали ее губы. – Где ты? Что с тобой?»
Слова лишь угадывались по губам. Ни звука из Сада не доносилось на морозное побережье чёрной реки.
– Всё хорошо… – проговорил он, надеясь, что и она сможет прочесть его слова, как он её. – Всё хорошо, лада моя…
Он протянул руку, прижал ее к холодной прозрачной тверди. И увидел, как с той стороны прижалась ее ладонь. Ладонь руки, которая когда-то давно, в страшном сне, злом наваждении, привиделась ему одиноко мерзнущей на каменных, залитых кровью плитах собора.