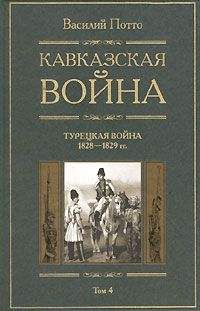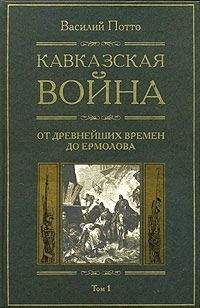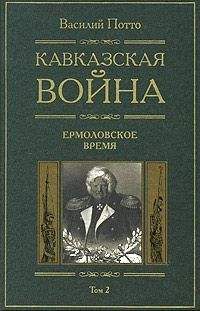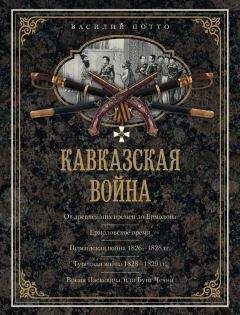Для личной характеристики Паскевича по отношению к служебным интересам своих подчиненных, далеко не безынтересен и следующий факт. В то время, когда Паскевич по власти главнокомандующего, уже назначил князя Андроникова командиром Нижегородского полка, и полк уже был принят им от генерала Раевского на законном основании, военный министр граф Чернышев сообщил фельдмаршалу, что предполагается назначить командующим Нижегородским драгунским полком состоящего при образцовом кавалерийском полке подполковника Доброва, лично известного Его Величеству с отличной стороны в отношении способностей и познания фронтовой службы, но что государь изъявил желание прежде такого назначения иметь по сему предмету мнение графа Паскевича. Казалось, что Паскевичу было бы весьма естественно указать на князя Андроникова, как на лицо, избранное уже им в командиры полка и притом известного с отличной стороны не одним познанием фронтовой службы, но и боевыми подвигами, нераздельно слившимися со славой нижегородцев в четыре кампании сряду. И это было бы тем основательнее, что, с назначением подполковника Доброва, Андроников или должен был поступить под начальство младшего чином, или оставить полк. Неловкость подобного положения почувствовалась даже самим Паскевичем, но, все еще находясь под гнетущим впечатлением истории Раевского, он не нашел в себе достаточной смелости высказать истину и согласился на назначение Доброва. Андроникову он предложил принять кавалерийский полк в России; но князь от этого отказался; он отвечал, что, прослужив семь лет в конной гвардии, перешел на Кавказ единственно для сближения с родственниками и что после двух войн, в течение которых получил два чина и все ордена до Георгия и Владимира на шею включительно, желает заняться теперь устройством своих дел, и отказывается решительно от всякого иного назначения. Он был зачислен по армии. Так выбыл из рядов Нижегородского полка один из доблестнейших его офицеров, под геройским предводительством которого полк, после целого ряда блистательных дел, закончил турецкую войну знаменитой бейрутской атакой.
Не отстоял Паскевич и близкого к нему человека, казачьего офицера, сотника Василия Дмитриевича Сухорукова, перу которого он был обязан блестящими реляциями с полей турецкой войны, также как был обязан персидскими реляциями Грибоедову. Этот Сухоруков был человек классически образованный, известный литератор, о котором с такой сердечностью вспоминает Пушкин при описании своего путешествия в Арзерум. Он был некогда близок к графу Чернышеву; но потом его постигла опала за преданность бывшему донскому атаману Иловайскому, личному врагу Чернышева, и Сухоруков был сослан на Кавказ за участие в тайном обществе, хотя все знали, что это общество не имело ничего политического, а состояло на Дону из людей глубоко привязанных к Алексею Васильевичу Иловайскому. Очутившись на Кавказе при начале персидской войны, Сухоруков попал в штаб Паскевича, при котором и сделал обе кампании, персидскую и турецкую, находясь в самых близких отношениях к фельдмаршалу. К несчастью, он поместил в “Северной пчеле” возражение на статью какого-то очевидца, касавшуюся военных действий в азиатской Турции. Возражения были мелочные, не заключавшие в себе ровно ничего особенного, но полемика, возгоревшаяся в газете, обратила на себя внимание Чернышева и тяжело отозвалась на участи Сухорукова.
“Сотник Сухоруков,– писал военный министр графу Паскевичу в декабре 1829 года,– в разных статьях, печатаемых им в журналах, говоря о военных действиях отдельного Кавказского корпуса принимает тон решительный и, выходя на сцену своим лицом, позволяет себе даже судить о распоряжениях начальства”. Чернышев просил поэтому опечатать бумаги Сухорукова, а самого его с фельдъегерем отправить на Дон. И Паскевич, которому хорошо было известно содержание статей, не счел даже возможным ходатайствовать об облегчении его участи. Сухорукова отвезли на Дон, а оттуда, переменив только фельдъегеря, отправили на службу в отдаленнейшие места Финляндии. Высылка Сухорукова остановила между прочим и прекрасный труд его по составлению истории Донского войска.
Из лиц, упомянутых в нашем рассказе, Раевский возвратился на Кавказ начальником Черноморской береговой линии и был генерал-лейтенантом; князь Чавчавадзе также в генерал-лейтенантском чине состоял членом Главного Управления Казавказским краем; Вальховский был начальником штаба Кавказского корпуса во все время управления краем барона Розена; Андроников стяжал себе народное имя после славных побед под Ахалцихе и Чолохом; Сакен и Муравьев – оба командовали в России корпусами, оба были генерал-адъютантами, и Сакен, как доблестный защитник Одессы и начальник Севастопольского гарнизона, был возведен в графское достоинство; Муравьев – был наместником Кавказа.
Так ответили своей службой эти лица на аттестацию Паскевича в своей политической неблагонадежности и на желание его иметь взамен их “хоть несколько другого рода генералов, которые с добрыми правилами соединяли бы в себе и способности”.
XXXVI. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ХРИСТИАН ИЗ ТУРЦИИ
Знаменитый Адрианопольский мир положил конец кровавой распре между Россией и Турцией. Священное слово “мир”, разом заставившее смолкнуть зловещий рев пушек, гул которых, как гул погребального колокола, разносил в стране скорбную весть о реках пролитой человеческой крови, вызвало благоговение многих миллионов людей. Но в то же время, посреди общей радости, здесь, в самом сердце Армении, весть об этом мире объяла глубоким унынием целый народ, вызывавший к себе горячее участие и вековыми бедствиями своими, и пламенным усердием, содействовавшим успехам русского оружия, и, наконец, теми светлыми надеждами, которые возлагал он на свое будущее под скипетром России. Весть, что русские с наступлением весны должны очистить завоеванный край, как электрический удар, поразила все христианское население. Целые сотни семей выбегали на дорогу, по которой проезжал Паскевич, и, бросаясь на колени, молили не покидать их на жертву мщения турок и курдов. Русскому офицеру невозможно было проехать через деревню, чтобы толпы народа не встречали и не провожали его вопросами, что будет с ними и их несчастными семьями. В тех отдаленных странах, где христианство много веков придавлено было тяжелым гнетом мусульманского владычества, русская армия, конечно, не могла опасаться неприязненных действий ни со стороны армян, ни со стороны греков. Но там, где единство религии могли приобрести ей только равнодушных зрителей борьбы ее с турками, там появление русских войск отдавало им сердца христиан и создавало союзников. В Баязете и Карее более двух тысяч армян сражались в рядах русских солдат; в Арзеруме, Бейбурте и Гюмюш-Хане – везде, где появлялись русские знамена, армяне и греки разрывали свои вековые отношения с турками. И чем далее распространялась слава русского оружия, тем ярче высказывалась любовь их к России, но тем с большей резкостью обнаруживалась ненависть мусульман, и число жертв их дикого фанатизма росло с каждым днем.
“Удостойте, Всемилостивейший Государь,– списал Паскевич императору Николаю,– обратить милосердное внимание Ваше на сии несчастные жертвы и не допустите совершиться, чтобы самовластие оттоманов мстило им за ту привязанность, какую оказали они России”.
Число таких семей, которым угрожала неизбежная опасность, могло, как полагал Паскевич, простираться до десяти тысяч, и он предполагал отвести под их поселение земли в Грузии и в Армянской области, а в случае крайности даже и на Кавказской линии. Первоначальное водворение в крае турецких христиан, конечно, должно было потребовать значительных издержек, но они без сомнения вознаградились бы теми выгодами, какие можно было ожидать от трудолюбивого и в высшей степени нравственного народа. Байрон утверждает, что трудно найти другой народ, подобный армянам, у которого летописи были бы так мало запятнаны преступлениями. Это справедливо, и может быть потому именно, что нет народа, у которого семейные узы были бы теснее и крепче, чем у армян. Паскевич не боялся издержек и даже указывал на источник для покрытия значительной части их у него имелось до ста тысяч червонцев, которые были отпущены в его распоряжение для привлечения на русскую сторону курдов, и остались почти неизрасходованными.
Государь вполне разделял мнение Паскевича. “Я уверен,– писал он ему в рескрипте,– что столь значительное преумножение народа в крае, вам вверенном, обязано будет вашим распоряжением, прочным для него, и полезным для Империи водворением...” Государь находил даже полезным поселить часть армян, наиболее отличившихся своей храбростью, в самом Ахалцихе и его окрестностях, где они, в составе батальонов или конных частей, могли бы быть употреблены для защиты нашей границы.