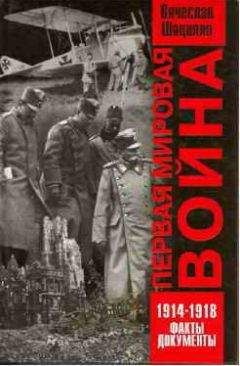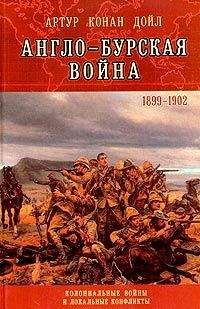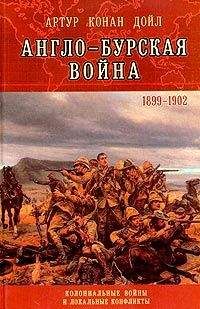Троцкий подтвердил, что состояние войны со стороны российского правительства объявляется прекращенным и во исполнение этого решения им отдан приказ о полной демобилизации армии на всех внешних фронтах: «Что касается практических затруднений, вытекающих из создавшегося положения, то я не могу предложить никакой юридической формулы для их разрешения. Невозможно подыскать формулу, определяющую взаимоотношения российского правительства и центральных держав».
Ф.-Кюльман просил назначить на завтра пленарное заседание, на котором союзнические делегации могли бы высказать свою точку зрения относительно создавшегося положения.
Троцкий отвечает еще раз:
— Что касается нас, то мы исчерпали все полномочия, какие мы имеем и какие до сих пор могли получить из Петрограда, Мы считаем необходимым вернуться в Петроград, где мы и обсудим совместно с правительством Российской Федеративной Республики все сделанные нам союзническими делегациями сообщения и дадим на них соответствующий ответ.
После этого заявления все члены большевистской делегации встали из-за стола и, не попрощавшись, вышли из зала.
Ф.-Кюльман успел еще спросить Троцкого, каким образом в дальнейшем могла бы снестись немецкая делегация с советской.
Троцкий уже на ходу ответил, что до открытия мирных переговоров сношения велись по радио. Кроме того, в Петрограде в данное время находится делегация Четверного союза, имеющая возможность сноситься со своими правительствами. В настоящее время он, Троцкий, связан здесь, в Бресте, прямым проводом с Петроградом. Одним из этих способов можно сговориться о форме дальнейших сношений. Взволнованный и потрясенный Ф.Кюльман закрыл заседание в 6 ч. 50 мин, оставив за собою право на свободу действий.
Отъезд русской делегации состоялся той же ночью.
Около часу ночи большая часть участников переговоров, кроме Иоффе и еще нескольких лиц… прибыла на вокзал.
На перроне никого, кроме коменданта штаб-квартиры, симпатичного майора Ф.-Камеке, в сопровождении нескольких адъютантов.
С нами, военными экспертами, он был всегда более непринужденным. Мне майор сказал на прощание:
— Ну что же теперь будет? Неужели мы теперь будем с вами опять воевать?
Я в ответ пожал плечами. Экстренный поезд двинулся обратно по тому же пути, которым мы ехали около месяца назад.
Большевики держались уверенно, весело обмениваясь впечатлениями по поводу того, как они подкузьмили империалистов…
По возвращении в Петроград немедленно по распоряжению Троцкого большевистский главковерх прапорщик Крыленко обратился ко «Всем! Всем! Всем!» со знаменитым приказом о демобилизации.
(Военно-исторический журнал. 1991. № 2. С. 46–48.)
17. Л. Л. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю
Утро достопамятного дня 11 ноября J918 года выпало серое, сырое, неприветливое. Мы уже знали из газет, что ровно в одиннадцать часов утра наступит торжественная минута: на фронтах всех армий прозвучит долгожданный сигнал «Отбой!» сигнал, знаменующий конец испытаний и страданий четырех лет войны.
И все же больно еще было чувствовать, что для меня, как представителя той армии, которая принесла столько жертв для разгрома вильгельмовской Германии, нет места на этом торжестве.
Лучшим средством для борьбы с черными мыслями является физический труд, и потому, вооружившись киркой и лопатой, я с утра с остервенением выкорчевывал твердые, как железо, корни старых кленов на нашем огороде.
За тоненькой и наполовину завалившейся железной решеткой, отделявшей нас от соседнего огорода, перекапывал землю мой сосед — отставной майор. Под ветхим костюмом чернорабочего, в тяжелых sabots (деревянных башмаках) трудно было распознать в этом высохшем необщительном старике еще недавно блестящего офицера, наездника. «Cadres Noirs» Сомюрской кавалерийской школы. Всю свою жизнь он имел больше дело не с людьми, а с лошадьми, и теперь, уволенный по предельному возрасту в отставку, он по привычке пытался «дрессировать», как он выражался, забитую уже им болезненную жену, трех непокорных дочерей и добродушного породистого сеттера.
За выкрашенными заново стенами двухэтажного дома майора, выходившего фасадом на наш огород, разыгрывалась уже не «собачья», а «человеческая» драма, отзвуки которой доносились до нас лишь под вечер, когда в час ужина обычно неразговорчивый, но любезный до приторности майор разражался диким ревом на запуганную им семью. Он мог существовать на пенсию и ренту с капитала жены, не зная, казалось бы, нужды, но богатство Франции основано на скупости ее граждан, и скупой майор остался верен своему скопидомству даже в те дни, когда от денег зависела жизнь его любимой дочери.
— Я, к сожалению, — говорил он, — не имею средств послать ее в горы, как этого требуют врачи, признавшие ее туберкулезной!..
Так последовательно, на моей памяти, майор похоронил и жену, и двух дочерей.
Однако в это "утро 11 ноября в его обросшем шерстью сердце возникло сожаление о бесцельно прожитой жизни. Опершись на лопату и смахнув навертывавшуюся слезу, старик сказал:
— Да, mon general (мой генерал), за что мы с вами так долго служили? Какую награду получили? Этот торжественный час победы мы проводим с вами здесь, вдали от ликующих наших товарищей, ковыряясь на наших огородах…
Я ничего не ответил этому жалкому и неприятному для меня человеку. Да, мне было тяжело и одиноко. Но я глубоко верил, что жизнь моя не кончена. Я смотрел вперед. Я знал: труден и тернист будет мой путь на Родину. Но без нее я не представлял своей жизни. Тот час, когда нога моя ступит на родную землю и я вдохну запах родных русских полей и лесов, будет для меня высшей наградой, о которой могу я мечтать сейчас.
Но меня все же тянуло в Париж. Хотелось хоть украдкой, со стороны взглянуть, что там происходит, и еще засветло мы с Наташей вышли из поезда на вокзале Сен-Лазар. Метро не действовало, такси и автобусы не ходили, и мы пешком двинулись на свою квартиру на Кэ Бурбон.
Широкая улица Обэр, выводившая нас на площадь де л'Опе-ра, успела уже принять праздничный вид. Со всех балконов свешивались флаги союзных наций: приятные в своей простоте сине-бело-красные — французские, пестрые бело-красные — английские и более редко встречавшиеся — американские, и то тут, то там — флаги всех других союзных государств. Тщетно глаз искал свой родной — русский: старый трехцветный флаг отжил свой век, а наш красный символизировал самую страшную для всего капиталистического мира опасность — пролетарскую революцию!
Нас обгоняли люди всех возрастов и сословий, спешившие к Большим бульварам, откуда доносились звуки музыки, прерываемые отдаленными криками толпы.
Как оказалось, площадь де л'Опера представляла центр ликования народа, освободившегося от бремени войны. Люди опьянели от свалившегося на них счастья.
По казавшимся когда-то широким, а теперь уже тесным для автомобильною движения бульварам двигалась бесконечная колонна открытых. грузовиков, набитых до отказа солдатами. Серо-голубые шинели французских солдат тонули в необъятной массе френчей цвета хаки союзников. Все уже успели хорошо подвыпить, и даже невозмутимые англичане, прозванные «томми», оживились.
— Хип, хип, ура! — дружно, в один голос, кричали они в ответ на восторженные крики «Браво, англичане!» экспансивных парижанок, махавших платочками:
Главную же массу проезжавших солдат составляли новые «спасители Франции» — прибывшие к шапочному разбору американцы. Понять, что такое они кричат, было столь же трудно, как и различить, что же собственно это за люди, столь отличные и по наружности, и по жестам от европейцев.
Между тем за плотной стеной бульварных зевак, любовавшихся проезжавшими солдатами, на асфальтированной площадке перед зданием театра «Гранд-Опера» продолжался непрерывный бал.
Схватившись за руки и захватывая на ходу прохожих, молодежь образовала непрерывную цепочку и вместо хороводов бегала в такт оркестру, меняя направление и следуя за головными. Этот древний танец «фарандола» как нельзя лучше отражал тот единый порыв радости, что спаял в этот день ликующих парижан.
Мы примостились в сторонке, на углу площади у газетного киоска. Вид у меня был непраздничный — прямо с огорода, в мягкой фетровой шляпе, подержанном осеннем пальто, с большим закинутым через плечо теплым вязаным шарфом…
Заглядевшись по старой военно-агентской привычке на грузовики с солдатами, я и не заметил, как цепочка фарандолы стала приближаться к киоску, незаметно расширяя круг, образовавшийся около нас. И вдруг неожиданно, как по знаку невидимого дирижера, вся эта кружившаяся возле нас толпа молодежи воскликнула:
— Vive la Russie! — Да здравствует Россия!
Сердце мое, казалось, разорвется от радости, гордости и счастья. Сигнал был подан, и возгласы «Да здравствует Россия!» неслись уже со всех сторон, заглушая оркестр и приветствия другим