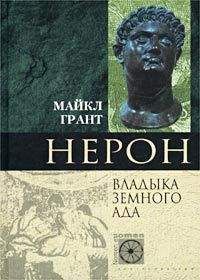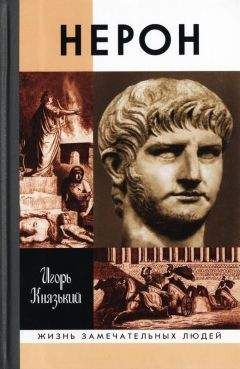Нерон, как сообщается, пребывал в состоянии ужаса до тех пор, пока к нему не пришли высшие чины преторианской гвардии, чтобы выразить поздравления по поводу его спасения от грозившей гибели, а депутации от соседних городов вскоре последовали их примеру. От этого ему стало несколько легче, и он заставил себя уехать в Неаполис (Неаполь). Оттуда он написал письмо Сенату, сообщив, что один из вольноотпущенников Агриппины был пойман с поличным при попытке лишить его жизни и что она, сознавая свою вину, как подстрекательница этого преступления, заплатила за это сполна. Затем в письме перечислялись все мыслимые обвинения, какие только могли быть выдвинуты против его матери, начиная со времен правления Клавдия и далее. Оно включало, по словам Квинтилиана, следующее высказывание: «Я едва в состоянии поверить, что мне ничего больше не грозит. Но это мне не доставляет никакой радости».
Убийство произошло между 19-м и 23 марта 59 года. Как мы узнаем из записи, члены Арвальского братства – элитного органа, включающего в себя некоторых наиболее влиятельных в государственной политике патрициев, – проводили 28 марта свое периодическое религиозное собрание в Риме. У них был обычай возносить жертвы за членов императорского семейства. Но на этот раз они не приносили жертв. Было слишком непонятно, за кого следовало бы совершать жертвоприношение и каким образом это выразить. Тогда 5 апреля они собрались снова и должным образом совершили жертвоприношение. К тому времени уже был издан сенатский эдикт, каким они могли руководствоваться, и они воздавали богам благодарность за спасение императора.
Но Нерон все еще не вернулся в столицу. Он отложил свое возвращение до сентября. Это было неловкое выжидание, и нелицеприятные надписи были видны на улицах.
Трое – Нерон, Алкмеон и Орест – матерей убивали. Сочти – найдешь: Нерон – убийца матери.
Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои Тот изводил отца – этот извел свою мать.
(Светоний. Нерон, 39)
И все-таки в целом Нерона довольно хорошо встретили, когда он наконец-то возвратился в Рим. Убийство не отразилось на его положении непосредственно. Возможно, для сенаторов и остальных было предпочтительнее отвести глаза от размышлений над тем, что же действительно произошло на берегу Неаполитанского залива, и считать, что сосуществование Нерона и Агриппины создавало невыносимую ситуацию, опасную для государства и его влиятельных людей, которые легко могли быть вовлечены в ядовитую ненависть между матерью императора и ее сыном. Было облегчением, что это положение закончилось. И теперь то из одной провинции, то из другой полились покорные выражения лояльности.
Нерон сразу же вернул людей, которых Агриппина отправила в ссылку, и, по-видимому, не без оснований ее день рождения был объявлен днем с дурным предзнаменованием.
С политической точки зрения это не было столь серьезным кризисом, как злопамятно говорится в склонных к преувеличениям отчетах историков. Правда, возможно, это было довольно щекотливое положение. Но проблема была решена без особых затруднений.
По общему мнению, письмо Нерона Сенату, сообщающее о враждебном выпаде его матери и о ее последующей смерти, было составлено Сенекой. И Тацит добавляет, что, когда высшие чины преторианской гвардии пришли поздравлять Нерона немедленно после случившегося, они сделали это по подсказке Бурра. Маловероятно, чтобы они с Сенекой были заинтересованы в этом убийстве, но Тацит предполагает, что после случившегося они, вероятно, старались спасти ситуацию как могли. Очевидно, они все еще считали необходимым для безопасности государства и их самих сделать все возможное, чтобы помочь Нерону. Следовательно, именно с помощью их дипломатии ему был оказан такой хороший прием по возвращении в столицу.
Мы можем только догадываться, что думал Бурр по этому поводу. Тацит замечает, с достаточной долей правдоподобия, что его беспокоило то, какой будет реакция армии на падение женщины, которая была дочерью всеми любимого Германика. Да и сам Нерон не считал, что может поручить ее убийство своим телохранителям. Что же касается Сенеки, его отношение может быть до некоторой степени реконструировано из его произведений. В философских эссе и трагических пьесах он постоянно размышляет над трудноразрешимой проблемой гармонии принципов личности и политической деятельности. В этом он очень отличается от воззрений богатого молодого поэта-«сатирика» Персия, который тоже писал в это время. Потому что он, хотя его колкий подход был полярно противоположен понятиям, бытовавшим при дворе Нерона, ни разу даже не намекнул и не сказал ни одного критического слова о политической ситуации в империи. В трудах Сенеки, с другой стороны, довольно много разглагольствований о пороках тиранов (к примеру, в «Троянках», «Фиесте», в трактате «О гневе»), к которым можно было причислить не последнего императора, а другого – Калигулу (37-41 гг.), который был взят в качестве типичного примера.
…Властные, богатые Меж тем желают больше, чем дозволено.
Мочь все стремится тот, кто может многое [16].
(Сенека. Федра, 215)
Сенека также восхвалял стоического, безгрешного человека, противостоит тирану: Катон, боровшийся сто лет тому назад против Юлия Цезаря, изображен (как и более ранними писателями) мудрецом. Сенека явно имеет в виду случай с Платоном (тот отказался от компромисса с тираном Дионисием из Сиракуз), который приводится Тацитом, заявлявшим позднее, что у Нерона зачастую было больше причин жаловаться на его свободу речей, чем на его подобострастие. Сенека остро ощущал, что наступает момент, когда возврата к прежнему уже нет. Он говорил, что сдержит свое обещание пойти на пир, если будет всего лишь холодно, но не тогда, когда снегопад.
Тиран может стать таким деспотичным, что единственное, что останется его советникам, – это удалить его со сцены. Он пишет в трактате «О благодеяниях», что если вся надежда на здравомыслие тирана уходит навсегда, то доброта, которой он платит ему, станет добротой ко всему миру. Расставание с жизнью – вот лучшее средство для него самого, а для того, кто никогда снова не станет самим собой, лучше всего уйти из жизни.
Эти слова могли быть написаны вскоре после восшествия на престол Нерона, но более вероятно, что их можно отнести приблизительно к 63 году. Во всяком случае, удручающий акт матереубийства в 59 году не только резко положил конец любым мечтам о философски настроенном принцепсе, но и заставил Сенеку отказаться от надежды на своего бывшего протеже, и его чувства совпадают с теми, что чувствовал Гамлет.
О сердце, не утрать природы;
пусть Душа Нерона в эту грудь не внидет;
Я буду с ней жесток, но я не изверг… [17]
(Перевод М. Лозинского)
Поступок был действительно ужасающий. И все-таки ради практической пользы государства Сенека, очевидно, решил, что момент действия еще не наступил. Национальные интересы, казалось, требовали заключения, что император все еще не дошел до того момента, когда возврата к прежнему уже нет.
В этом состоит постоянная дилемма для сотрудничающих с режимом. Так это или нет, но они всегда будут думать, как бы принести побольше пользы своим соотечественникам, да и самим себе, как бы, оставаясь на свои постах, предотвратить еще худшие бедствия. Они будут считать, что их отставка может повлечь большую вероятность для государства погрязнуть в насилии. И именно так, очевидно, решил Сенека в 59 году. Его собственной безопасности недавно угрожал один зловредный обвинитель. Да к тому же он был слишком хорошо осведомлен, что практика не всегда совпадает с теорией [18].
Безоговорочное признание необходимости такого поведения появляется в его позднем трактате «О гневе», в котором он цитирует замечание старого придворного о том, что тот выжил, снося побои и вознося благодарности за них.
Другими словами, если сотрудничающий с режимом в состоянии принести пользу, оставаясь на своем посту, следует реалистично понимать, что его возможности в этом направлении чрезвычайно ограниченны. В другую эпоху Томас Уортон (Warton) писал:
Содом не может быть исправлен святым папой!
Перспектива исправить Нерона была в равной степени необнадеживающей. Сенека в своем произведении «О благодеяниях» довольно многозначительно замечает, говоря о деспотизме вообще, что если тиран желает артистов и шлюх и такие дары смогут смягчить его ярость, то он с готовностью предоставит их ему.
Сенека, несмотря на такие мрачные размышления, верил, что есть смысл играть такую недостойную роль. Такого же мнения придерживался и историк Тацит. В отличие от многих поздних критиков он выносит благосклонный вердикт попыткам Сенеки. Он полагал, что в удручающе трудных условиях этих опасных имперских режимов позиция Сенеки была правильной. Тесть самого Тацита Агрикола, которым он восхищался, сыграл гораздо более соглашательскую роль при гораздо более тираничном Домициане (81-96 гг.), – и, следовательно, историку казалось, что упрямая, но ненавязчивая настойчивость Сенеки без многочисленных иллюзий и даже надежд в равной степени заслуживает похвалы. В одном из своих писем к другу Луцилию Младшему из Помпей Сенека предлагал держаться как можно дальше от скользких мест, мотивируя тем, что даже на твердой земле мы стоим не слишком устойчиво. А в своем последнем письме он добавляет, что самые удачливые люди, как правило, самые несчастные.