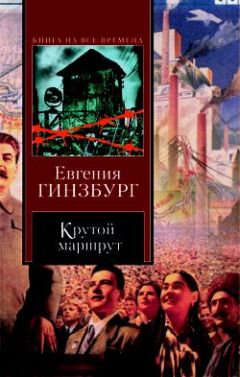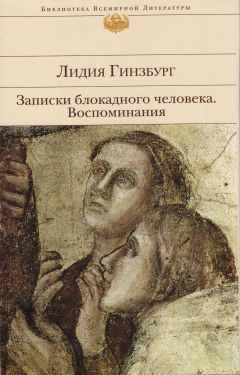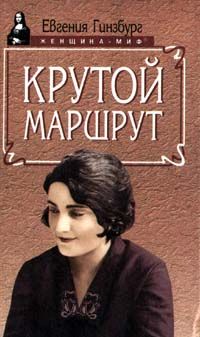Если же учитель решался высказаться против государственной политики — парткомы и органы внутренних дел реагировали незамедлительно. Например, внимание украинских спецслужб в марте 1930 г. привлекло заявление Е. И. Самойленко:
«Нынешняя политика привела к разорению крестьянства и голоду в стране… Колхозы один за другим терпят крах. Крестьяне настроены против советской власти».
В Западной области, как стало известно, одна учительница — «кулачка» — пробралась в колхоз с целью его разложения, деморализации его членов, а учительница Кирпичникова спрятала принадлежавшие священнику продукты, одежду и серебро, намереваясь покинуть деревню. В Туркменистане, согласно докладной записке, Степанов, «классовый враг, скрывающийся за званием учителя», два года возглавлял борьбу кулаков против коллективизации, а в другом районе не названный по имени учитель «агитировал против колхозов». Директора одной сибирской школы, который считал кулаков и священников, подобно своему отцу, «невинными жертвами», заклеймили как «враждебный, идеологически чуждый элемент». Там же, в Сибири, Восходова причислили к «реакционному учительству», которое «поддерживает классового врага», когда он заявил, что «кулак не эксплуататор». В Центрально-Черноземном районе учительница Зотикова не дала конфисковать свою скотину, а деревенским руководителям сказала, что «обида на это» вынудила ее «вернуть профсоюзный билет и вступить в шайку бандитов»{105}. Опровергая заявления властей, что сельское хозяйство благодаря их политике процветает, что крестьяне всем довольны и деревня стремительно движется к социализму, эти учителя выходили за рамки дозволенного, чем навлекали на себя гнев руководства страны и компартии и репрессии органов внутренних дел.
Выше речь шла об отдельных работниках школы, но чаще антисоветчину приписывали целым группам учителей, порой не совсем четко определенным: тридцать восемь «контрреволюционных» учителей близ Полтавы, четыре сибиряка, отстраненные от преподавания за «антисоветские» высказывания, связь с кулаками и пьянство. В Туркменистане многих учителей уволили за противодействие коллективизации, распространение религиозной литературы и дезорганизацию работы школы. Узбекские власти прямо говорили, что «многие учителя — сторонники контрреволюционных националистических организаций», а в других докладах отмечались «группы чуждых и враждебных элементов», «вредители и враги, проникшие в школу»{106}.
Наряду с такими обвинениями учителей потихоньку травило местное начальство, но при этом (что гораздо важнее) их нахваливали как энтузиастов своего дела, достойных представителей советской власти. Например, в августе 1930 г. «Правда» подвергла критике местных руководителей, которые во всех учителях «огульно» видели контрреволюционеров. Одному архангельскому чиновнику объявили партийное взыскание, когда он призвал «выгнать с работы» половину учителей. Поклепам на учителей-«антисоветчиков» часто сопутствовали энергичные, порой яростные обвинения в дурном обращении с учителями начальников, которые, по сути, и были виновны в бедах школы. Именно об этом заявляет Ефремов:
«Правда, есть и среди педагогов такие деятели, которым не место в рядах армии просвещенцев; их надо тщательно в установленном порядке выявлять, вскрывать их непригодность, а нередко и сознательную вредительскую деятельность и безо всяких лишних церемоний выбрасывать из просвещенческих рядов. В подавляющем же большинстве сельский просвещенец идет рука об руку с советской властью и партией в деле хозяйственной перестройки деревни на социалистических началах. И тем обиднее, когда выбрасывается из просвещенческих рядов не чуждый элемент, составляющий сравнительно небольшой процент, а просвещенцы-активисты, учителя-общественники»{107}.
Ефремов выдвинул по поводу учителей два важных тезиса: во-первых, только незначительная часть их — «сознательные вредители», а во-вторых, многие якобы «чуждые элементы» заслуживают полного восстановления в правах.
Москва тоже не отмалчивалась, а недвусмысленно и эмоционально заявляла, что большинство учителей поддерживают советскую власть. В январе 1930 г. директор московского отдела образования Любимова сказала: «Среди педагогов имеются чуждые и враждебные рабочему классу элементы… Но учительство в своей массе является определенно советским, выполняет свои обязанности добросовестно». В мае 1930 г., всего через несколько месяцев после самого страшного периода раскулачивания, чиновник профсоюза работников просвещения заявил, что «большинство учителей являются надежными помощниками партии». В конце того же года «Правда» вновь подтвердила, что большинство сельских учителей активно поддерживают советскую власть:
«Учитель — лучший помощник в проведении хлебозаготовок, учитель — советский агитпроп — проводник коллективизации и опора в проведении всех кампаний в деревне… Есть среди сельских просвещенцев известная часть колеблющихся, легко подвергающихся кулацкому воздействию, есть незначительная часть явно держащих сторону классового врага, но в основном сельское учительство — советское учительство»{108}.
Часто называя в столь авторитетной газете сельских учителей «советскими», автор статьи словно старается развеять подозрения, что все учителя — тайные или явные противники советского строя{109}.
В то время как «незначительную часть» учителей пригвоздили к позорному столбу, а «подавляющему большинству» «советского учительства» воздали должное за верность делу партии, третья их часть, соблюдавшая политический нейтралитет, привлекала внимание тех же самых деятелей. Многих учителей порицали за нежелание сделать выбор в острой классовой борьбе между советской властью и ее противниками. В партийном докладе Центральному комитету в 1928 г. «старые специалисты» в деревне, в том числе учителя, обвиняются в том, что они «сторонятся» классовой борьбы, посвящая себя «исключительно культурной работе» и избегая участия в хозяйственных и политических кампаниях. В 1929 г. Баранчиков также заявил, что примиренчеству нет места во времена обострения политической борьбы:
«Сельское учительство чувствует себя растерянным в обстановке обостряющейся классовой борьбы. В выступлениях учительства явно звучат примиренческие нотки: хорошо, мол, жить со всеми в мире — и с бедняками, и с зажиточными… Однако часть учительства стоит на передовых позициях классовой борьбы»{110}.
В редакционной статье «Правды» говорится: «Значительная часть учительства стоит пока в стороне, старается ограничить свою деятельность рамками беспартийной культурной работы». В октябре 1929 г. Бубнов весьма эмоционально заявил, что «такая нейтральность является в настоящее время ширмой для кулацкой идеологии и кулацких поползновений. Работник просвещения должен быть активным, воинствующим строителем социализма». Двумя годами позже на Всетуркменском съезде советов прозвучали обвинения в адрес сельских учителей в «равнодушии к политике», а журнал Наркомпроса обнаружил прямую связь между позицией учительства и требованиями коллективизации:
«По существу, под понятием “нейтральности” у этих людей очень часто скрывается в замаскированном виде конкретное действие, направленное против коллективизации. Поэтому учителю быть “нейтральным” в деле строительства колхозов сейчас, в тот момент, когда бедняцкие и середняцкие массы вступают в колхозы, — это просто быть оторванным от этих масс, быть самым некультурным “работником” деревни. Общественность вообще, а тем более колхозники, вправе требовать от учителя-воспитателя определенного, совершенно ясного отношения к колхозному делу. Тот учитель или учительница, которые не поймут этого, будут выброшены жизнью как ненужные, отсталые, никчемные или сами вынуждены будут уйти и дать дорогу новому учителю, которому близка и понятна новая перестройка деревни на началах коллективизации»{111}.
Такие заявления частенько звучали, когда развернулась «война с примиренчеством»{112}.
Многие учителя, однако, наряду с давлением «сверху» и требованиями отказаться от нейтралитета в пользу открытой просоветской позиции испытывали и давление «снизу», кое-кто в деревне не хотел видеть школу советской. Учителя опасались обвинений в примиренчестве, но все же некоторые свидетельства позволяют судить о том, как нелегко им было между двумя враждующими силами. Активным участникам политических кампаний угрожали: «Не лезь не в свое дело, лучше учи детишек, или мы с тобой рассчитаемся», «Учитель должен учить ребят, а не в советах работать», «Не суйся в общественное дело, учитель должен учить детей!»{113}.