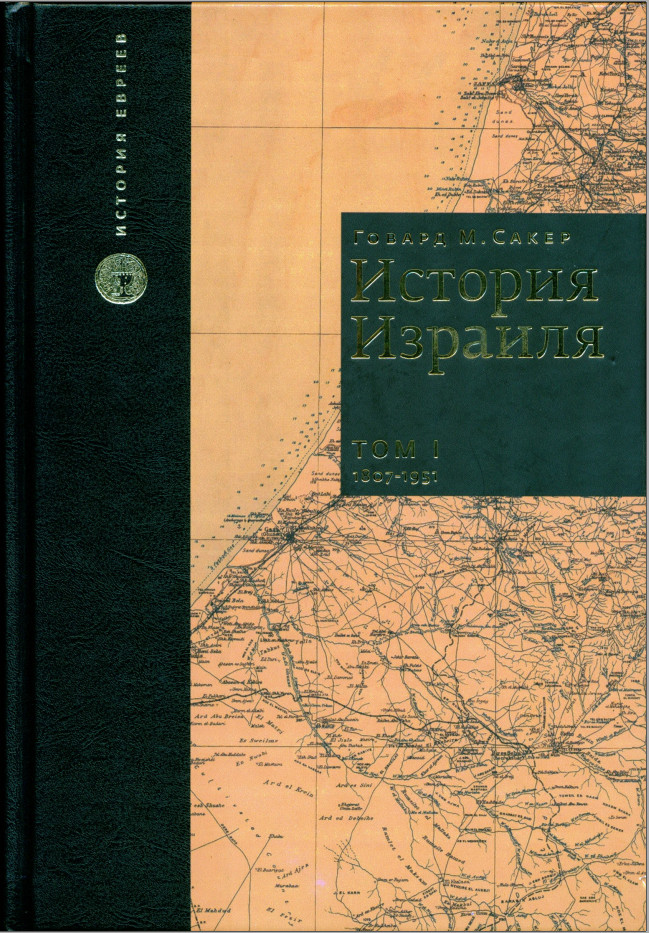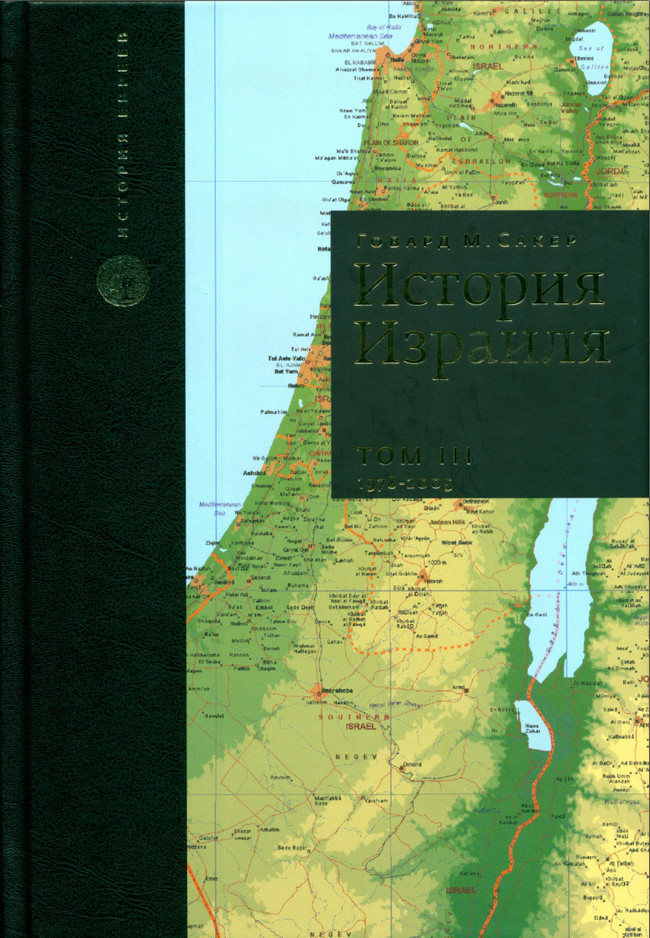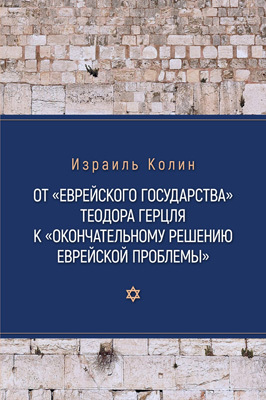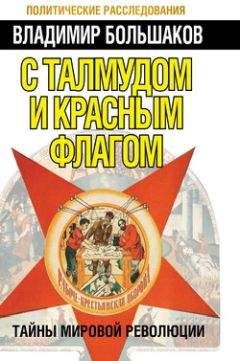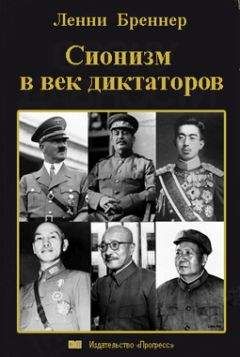и Дюринга; оно было более четко оформленным и более популярным. Фактически французский антисемитизм можно назвать пионером современной антиеврейской идеологии. Немецкий и русский антисемитизм нередко заимствовали свои идеи из Парижа. Позже, во время дела Дрейфуса, антисемитизм во Франции стал общенациональным вопросом, гораздо более значительным, чем в Германии того времени.
Основную атаку на антисемитизм повели представители еврейского лагеря — те, кто утверждал, что настоящего синтеза иудаизма и западной цивилизации так и не произошло. Ассимилированный немецкий еврей, как полагали его восточные единоверцы, утратил национальную непосредственность и теплоту своего внутреннего мира; он потратил много усилий, чтобы стать похожим на других, но не добился признания, о котором так мечтал, и в результате превратился в несчастное существо, страдающее особенно болезненной и, очевидно, неизлечимой формой шизофрении. Именно такое впечатление сложилось, например, у молодого Хаима Вейцмана, когда в 1890-е годы он прибыл в Германию, чтобы работать преподавателем. Он обнаружил, что немецкие евреи просто не верят в существование еврейского народа и не понимают природу антисемитизма. Вейцман не нашел в Германии полноценной еврейской жизни: жизнь еврея была искусственной, оторванной от реальности и лишенной душевной теплоты, веселья, индивидуальности и яркости. В одном из своих эссе («Avdut betoch Herut» — «Рабство посреди свободы») Ахад Гаам утверждал, что западные евреи в глубине души понимают, что несвободны потому, что им недостает национальной культуры. Чтобы найти оправдание такому своему существованию, им приходится выступать против самой идеи неповторимого характера и предназначения каждой нации.
В подобной критике содержалось много конструктивного, но она была не слишком полезной, так как игнорировала существенные различия между евреями Восточной и Западной Европы. На самом же деле проблема была гораздо сложней. То, что Вейцман писал о немецких евреях, иногда почти буквально совпадало с мнением Герцена и его предшественников-славянофилов, писавших о скучных немецких филистерах. Быть может, русские и немецкие евреи были заражены тем презрением, которое испытывали соответственно друг к другу народы, среди которых они жили? Ахад Гаам играл центральную роль в истории еврейского культурного ренессанса, но те идеи, которые он популяризировал, не имели никакого отношения к еврейской традиции: их корни были на Западе. Евреи Восточной Европы смогли не утратить свою национальную индивидуальность благодаря своей многочисленности: им было легче сохранить свой образ жизни и свой фольклор. Они не испытывали особого искушения воспринять русскую, румынскую или галицийскую культуру. А западных евреев было гораздо меньше, и они тянулись так сильно к немецкой, французской или английской цивилизации просто потому, что она была намного более мощной. «Мы не можем и не хотим отказываться от эмансипации, — писал некий сионист (Ф. Оппенгеймер). — Если мы проанализируем свою культуру, то обнаружим, что 95 % ее состоит из западноевропейских элементов». Еврейские националисты из Восточной Европы более остро ощущали антисемитизм и пределы ассимиляции, но они не понимали проблем, стоявших перед евреями, которые жили в среде, так не похожей на их собственную. Западным евреям, утратившим корни и сравнительно немногочисленным, не оставалось ничего другого, как влиться в превосходившую их цивилизацию. История показала, что даже крупным странам не удается изолироваться от более передовых культур и более современных путей развития. Но что касается евреев Западной Европы, то, по мнению современные критиков, процесс ассимиляции среди них развивался слишком быстро и зашел слишком далеко. «То, что начиналось совсем незаметно, вскоре превратилось в могучее и страстное движение» (Г. Шолем). Это привело, с одной стороны, к новому всплеску творческих сил, но с другой — к глубокой неуверенности. Как выяснилось впоследствии, многие евреи обогатили Германию достижениями в области экономики, философии, науки, литературы и искусства. Но лишь немногие евреи внесли соответствующий вклад в еврейскую культуру. Вообще еврейской науки, философии и экономики просто не существовало; трудно представить себе, чтобы в Западной Европе нашлось место даже для специфически еврейской литературы и искусства. Иными словами, «любовная связь» между евреями и немцами была односторонней и оставалась без взаимности. В том, что необходимо и полезно для немецкой культуры, евреи проявляли больше энтузиазма и проницательности, чем большинство немцев; однако никто не выказывал им за это особой благодарности. Но при этом ассимиляция была естественным процессом, и остановить ее в Германии было невозможно.
В других странах Западной Европы ассимиляция началась позднее, но зашла дальше, чем в Германии. В Италии интеграция евреев была более полной, чем в Германии: постоянный приток евреев с Востока обеспечивал вливание свежей крови в итальянскую нацию (хотя враги евреев вовсе не радовались этому обстоятельству). Ситуация в Англии вообще отличалась от положения дел в Европе. Там заключалось больше межнациональных браков, особенно среди аристократии. Эмансипация в Англии произошла тем же традиционным образом, которым в этой стране разрешались все подобные вопросы: спокойно, на эмпирической основе, а не в результате абстрактных идеологических дебатов. В 1809 году в одну из пятниц вечером король посетил лондонскую синагогу по приглашению братьев Голдсмит, после чего социальные контакты с евреями стали вполне приемлемыми и даже респектабельными. Правда, первый еврей, Лайонел де Ротшильд, появился в парламенте только в 1867 году. И хотя он не внес заметного вклада в британскую политику и никогда не выступал в дебатах, все же лед был сломан: через несколько лет еврей занял пост заместителя министра юстиции, и остатки правовой дискриминации были устранены. Англичанам не приходилось опасаться, что евреи достигнут культурного превосходства, как это случилось в Германии: в Англии евреев было меньше, а их вклад в культурную жизнь общества был менее значителен. Более того, англичане чувствовали себя гораздо увереннее, чем немцы, и не испытывали страха перед «осквернением расы». С другой стороны, сами английские евреи вовсе не стремились к полной эмансипации. Конечно, они приспособились к английскому образу жизни, но в то же время надеялись сохранить некоторые черты своей индивидуальности. Они считали себя отдельной расой, и страна, привыкшая к роли колониальной империи, рассматривала присутствие евреев как обогащение своей национальной жизни, а не как угрозу для нее (при этом, конечно, не допуская, чтобы евреи стали слишком многочисленными и приобрели могущество).
Параллели между ассимиляцией в Германии и во Франции гораздо теснее. Почти все, что было сказано о достижениях и недостатках ассимиляции евреев в Германии, можно отнести и к Франции. Если дети Мендельсона обратились в христианство, то это же произошло и с детьми Кремье, великого борца за свободу французских евреев. Часто говорилось, что евреи чувствовали себя ближе к немцам, чем к другим европейским народам, и что в Германии они укоренились гораздо сильнее, чем где-либо еще. Но авторы подобных заявлений обычно не слишком хорошо представляли себе положение евреев