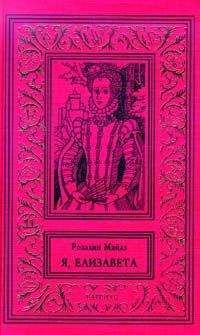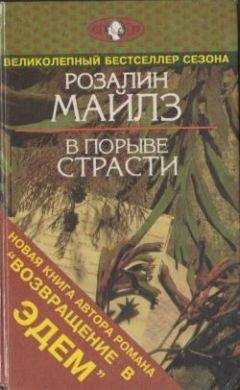Однако в эти победные дни мне не давали особенно засиживаться над бумагами: нельзя было пренебрегать народным и придворным ликованием. Все, начиная с рассудительного Берли и угрюмого Уолсингема и кончая последним слугой, выносящим ночную посуду, – нет, кончая последним городским золотарем, все веселились и бражничали от зари до зари. Я тоже музицировала – да, на вирджиналах, на чем же еще? – мы смотрели столько представлений, сколько никогда прежде.
Надо сказать, и пьесы и сочинители стали заметно лучше. Лорд Оксфорд покровительствовал самому выдающемуся из них, некоему Лили.
А в это Рождество мой недавно назначенный лорд-камергер, кузен Хансдон, решил сделать мне приятное.
Бедный Гарри! Он раздался вширь, его юношеская красота осталась в прошлом, как и шевелюра. Однако любовь к проказам и веселью осталась.
– Ваша милость, протеже лорда Оксфорда предлагает для празднества пьесу, он говорит, слабенькую, но его собственную, бойкую вещицу, как раз для новогодней ночи…
Наступил Новый год, на замерзший Лондон опустилась ночь, фонари озарили потолочные балки, я воссела впереди придворных. Вышел юноша – красивый? – не то слово, обворожительный, с первым росистым пушком на подбородке, с усиками мягче, чем у бедной старушки Парри, однако изломанный, извращенный, развратный, один из тех, кто навсегда потерян для женщин, – и представление началось.
О, Синтия!» – воскликнул красавчик, кланяясь направо и налево, но прежде всего – самой Синтии, как он именовал меня, богине Луны, царице Ночи – мне, облаченной в атлас цвета белейшей слоновой кости, в алмазы и жемчуга, блистающей в парадной зале Уайтхолла, словно луна в окружении звезд-придворных…
О, Синтия, я – Эндимион, влюбленный Эндимион, в моих очах ничто не ярко, кроме твоих очей, ничто не прекрасно, кроме твоего лика, ничто не достойно восхищения, кроме твоих добродетелей…»
Правда, красивая легенда, история Эндимиона, юноши, который влюбился в Луну и будет спать тысячу лет, пока она не разбудит его поцелуем?
А рядом с моим собственным Эндимионом, моим сладостным юным лордом, который, покуда шла пьеса, опирался на подлокотник моего кресла и отпускал скороспелые замечания по ходу действия, я и впрямь была Луной, воистину плывущей в облаках.
– Как Вашему Величеству пьеса?
Бедный старательный Хансдон, вечно-то он стремится угодить, доставить мне удовольствие.
Я улыбнулась, как моя маска, как милостивая королева, а не как глупая коровника в любовном забытьи.
– Мне понравилось. Скажите этому Лили, что он может рассчитывать… – Тут я вспомнила, как туго у нас с деньгами, и слегка поправилась, – на искреннее и должное признание с нашей стороны.
Старое лицо Хансдона просветлело.
– Мадам, ему скажут.
Сказать – дешево. Обнадежить и вовсе ничего не стоит. Собрать войско, начать войну – вот что дорого. А без войны никак.
Они все хотели воевать: Рели, и Дрейк, и мой лорд, и все мои юные ястребы, и этот глупец Норрис – впрочем, не совсем глупец, он успешно воевал в Нидерландах под началом Робина, – нет, поскольку время на исходе, скажем всю правду: сэр Жан» Норрис, как называли его голландцы, был опорой нашей армии и Робиновой правой рукой, опытным военачальником, нет, ведущим актером на театре военных действий. Он поднаторел и в морской войне, иначе я не включила бы его вместе с Рели в число тех немногих, кто тайно известили меня о нескольких уголках нашего маленького острова, где могли бросить якорь испанские галионы – глубокая осадка не позволяла им заходить в обычные бухты. Норрис знал все.
Так зачем же он – зачем же они в один голос настаивали на новом походе, зачем дали мне такой неудачный совет?
И если уж говорить правду – разве я слушалась не моего лорда, который поддерживал этот замысел с самого начала? Разве я, не хотела быть с ним заодно, в надежде сблизиться хоть так, раз иная близость между нами невозможна?
Если так, то я жестоко поплатилась! Чтобы снарядить флот, пришлось залезть в оба кармана, вывернуть их наизнанку, наскрести фунты и пенсы, которых требовали мои вояки. Пришлось одалживаться в Казначействе, занимать у чужеземных ростовщиков, вот до чего я дошла. Черт их всех побери, у меня сердце изошло кровью!
– Повторите, – говорила я Дрейку, – зачем нужна эта авантюра? И какую добычу вы с товарищами обещаете на этот раз?
– Ваше Величество, мне нечего добавить к тому, что сэр Джон Норрис и ваш собственный граф Эссекс говорили вам двадцать раз! – отвечал он скорее по-моряцки грубовато, нежели придворно-учтиво. – Мы плывем в Лиссабон, где укрываются последние уцелевшие после разгрома Армады крысы, и поджигаем их. Этим мы окончательно ставим крест на испанском военном флоте, после чего и вы, и вся Англия можете не опасаться Испании и Рима, Папы и всех попов-заговорщиков, вместе взятых! Оказавшись в Лиссабоне, мы поднимаем португальцев на восстание против испанского короля, напоминаем им об истинном короле, низложенном доне Антонио…
Дон Антонио – Господи, конечно! – жертва Филиппова властолюбия, он и сейчас, как докладывает Уолсингем, умоляет Англию помочь ему против испанского супостата…
– Да, да, продолжайте, я слушаю!
– Затем, Ваше Величество, мы направимся к Азорам, где надеемся поживиться богатой добычей…
– Да, да, богатой добычей.
Я алчно смаковала эти слова. Деньги, сокровища, средства, наличность – как они мне нужны!
Страсть к золоту мучила меня ничуть не меньше, чем страсть к моему лорду, и почти так же сильно, как несчастные гнилые зубы…
Мои кошельки пусты! Военная казна пущена на борьбу с Испанией, потрачена, истощена, – золота! золота! Я нуждаюсь в нем, мы нуждаемся, Англии нужно…
Мне, нам, Англии? Я и мы – одно, я – это Англия, и Англия – это я, родимая страна, страна, которую я родила, мое единственное дитя…
А что говорит Дрейк?
– ..в это время года в Испанию приходит караван с золотом и серебром, добытыми на рудниках Перу, – если вы захотите, мы их перехватим, целые корабли, груженные слитками и самородками, сокровищами и самоцветами, какие вы видели в прошлый раз…
О да, я видела, я обладала огромными изумрудными распятиями, алмазными коронами, рубиновыми, сапфировыми, агатовыми, аметистовыми реликвиями – разумеется, грубыми, аляповатыми, – истинным протестантам ничего другого не оставалось, кроме как сломать их, камни похуже продать, получше – оправить заново к вящей славе Елизаветы, Англии, нашего Бога.
Да! Золото, драгоценности, богатая добыча, да!
Большой, обрамленный сапфирами алмаз одобрительно подмигнул, когда я протянула Дрейку унизанные перстнями пальцы.
– Отправляйтесь, сэр Фрэнсис! И, как в былые времена, покажите себя истинным драконом!
Однако, предупреждаю, в этот раз я не удовлетворюсь одной подпаленной бородой – извольте зажарить их и прокоптить, потушить и хорошенько подрумянить с обеих сторон!
Коротышка поклонился, венчик редеющих волос весело заколыхался.
– Милостивая государыня, я отвечу, как старый охотник: покажите ловчим дичь, покажите гончим оленя, и кровь вам обеспечена – считайте, что желанный ливер уже шипит на вертеле и охота на испанцев будет продолжаться, пока сама Англия не воскликнет: Довольно, я сыта, уже в горло не лезет!»
И так, стараясь убедить меня, говорили все, кроме Берли и его сына, – а мой лорд громче всех.
Зачем я их слушалась, зачем слушалась кого-либо, кроме Берли и маленького Роберта, слушала эти хвастливые бредни?
Не говорите, не отвечайте, знать ничего не желаю.
А покуда они готовили свой грандиозный поход – воистину грандиозный, если судить по затраченным деньгам! Сперва у меня просили всего пять тысяч фунтов, и этого хватило бы за глаза! Потом всякими но» и если», ложью и экивоками, уловками и увертками сумма увеличилась до восьми, потом до двенадцати тысяч, – пока разворачивалась эта суматоха, мой синеглазый Рели (все такой же синеглазый, но давно не мальчик по сравнению с моим лордом) обнаружил себя на вторых ролях и впал в приступ ревности.
– Вынужден просить вашего дозволения покинуть двор, – натянуто объявил он как-то весенним утром, когда хмурая погода, казалось, просочилась в присутствие – такими мы все выглядели серыми, – и поехать в Шерборн, Ваше Величество, в свои земли, а затем в Ирландию, где мои поместья приходят без меня в запустение.
У него хватало забот и с заморскими прожектами.
– Выдумал какую-то собачью чушь – сажать в Ирландии корнеплоды, которые его люди вывезли из Нового Света, – громко потешался мой лорд. – Я их видел и вареными, и жареными – белые, мучнистые, в бурой кожуре, называются чудно – картошка». Хуже репы, люди эту гадость есть не станут, даже деревенские, одним словом, на наших островах это не привьется!