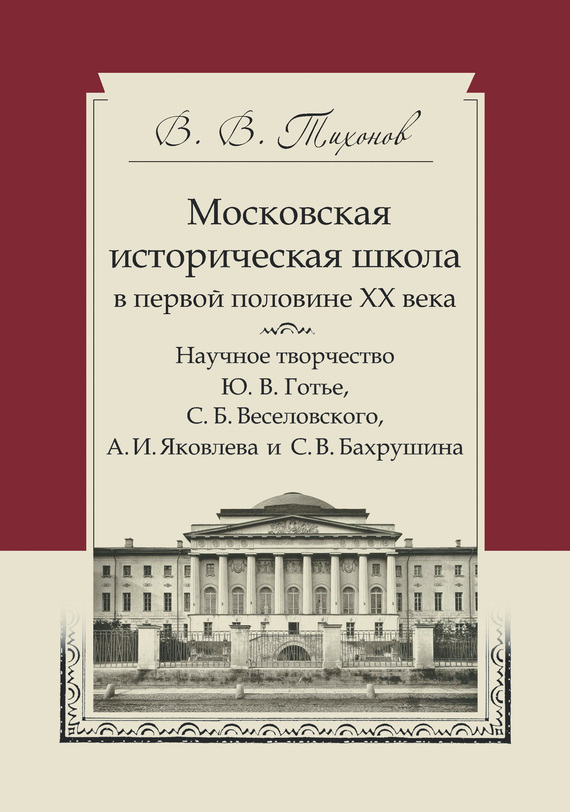и в видоизмененной форме, в официальный советский исторический нарратив [1746]. Слегка подправленными их можно было обнаружить в обобщающих трудах, монографиях и учебниках вплоть до распада СССР и даже позже.
Помимо чисто негативных были и другие последствия. Так, благодаря тому, что кампании показали важную роль историографических исследований в контроле за исторической наукой и идеологической борьбе с буржуазной наукой, были брошены серьезные ресурсы на развитие историографии как особого направления исследований. Спустя некоторое время это станет предпосылкой для расцвета историографических исследований в СССР. Самое серьезное внимание было уделено и развитию изучения истории советского общества. Для этого была создана необходимая инфраструктура и брошены серьезные ресурсы.
Было и еще одно, возможно главное, последствие. Абсурдность обвинений по отношению к абсолютно лояльным к режиму ученым шокировала и разрушала иллюзии о сталинском режиме не у всех, но у многих. Именно эти люди станут одной из опор процесса десталинизации, последовавшего сразу после смерти тирана. Это явление тем любопытнее, что в годы идеологических кампаний ушло поколение историков «старой школы». Таким образом, крест реформирования сталинской системы ложился на плечи поколения, выросшего при Сталине и иной реальности не знавшего.
В этой связи насущной необходимостью является изучение того транзита от сталинской эпохи, который совершала советская историческая наука. Три года, прошедших между смертью Сталина и XX съездом, до сих пор являются неизвестной страницей в истории отечественной исторической науки. Ясно, что переход был отнюдь не простым, многовекторным и где-то даже неожиданным. Важно подчеркнуть, что процесс десталинизации исторических исследований начался не только сверху, но и снизу. Немногочисленные пока исследования наглядно это показывают [1747]. Это является еще одним свидетельством, что, несмотря на идеологические кампании, внутри корпорации сохранился научный потенциал.
Вместо послесловия:
Идеологические кампании «позднего сталинизма» в корпоративной памяти российских историков
Корпоративная память играет важнейшую функцию в формировании профессиональной идентичности. Образы классиков профессии, ее отцов-основателей, легенды об их деятельности, интерпретация событий, оказавших определяющее влияние на историю сообщества, и т. д. являются необходимым элементом самовоспроизводства среды, развития ее самосознания, приобщения неофитов к сложившейся системе ценностей. Относительно быстрая институционализация такого направления, как историографические исследования, становится понятной и объяснимой не только с точки зрения нужд научного поиска, но и с точки зрения потребностей самого сообщества историков в корпоративной памяти. Если историю принято рассматривать как самосознание общества, то историография — это самосознание профессионального корпуса историков.
Память об идеологических кампаниях последнего сталинского (в первую очередь речь идет о кампаниях борьбы против «буржуазного объективизма» (1948) и «космополитизма (1949)) десятилетия занимает уникальное положение в воспоминаниях о советском периоде развития отечественной исторической науки. С одной стороны, нельзя сказать, что память об этих событиях гипертрофированно актуализирована и до сих пор играет ключевую роль во внутренней жизни российского научно-исторического сообщества. Но, с другой, и говорить о полном забвении также не приходится. Классики memory studies всегда подчеркивали, что индивидуальная память тесно переплетена с социальной [1748]. Несмотря на то, что индивидуальная память никогда не подавляется коллективной полностью, все же ее трансформация более чем очевидна. Это справедливо и в данном случае.
Особенностью воспоминаний о кампаниях является то, что они оказывались долгое время вне научного дискурса, а оставались в форме живой памяти. Пожалуй, единственной работой, анализирующей особенности корпоративных воспоминаний о событиях 1940-х гг., является монография О. Каппеса. Исследователь подчеркивает стремление сообщества историков к глорификации своего прошлого и замалчиванию неудобных фактов. В первую очередь О. Каппес связывает этот феномен с желанием поколения, сформировавшегося именно в годы послевоенных идеологических кампаний, сохранить свой символический капитал, в том числе и моральный [1749]. Представляется, что этот вывод верен лишь отчасти. Дело в том, что в формировании «позитивного нарратива» самое активное участие принимали и те историки, которые не получали видимых дивидендов от поддержания коллективного мифа. Младшие, в том числе и постсоветские, поколения также внесли свою лепту. Главной причиной, как мне кажется, является стремление к поддержанию мифа об учителях. Сложившиеся научные традиции, а также этос следованию им, активно внедряемый в отечественной исторической науке начиная с университетской скамьи, приводит к формированию устойчивого канона описания истории исторической науки. Его обязательной составляющей являются, во-первых, рассказ о служении науке как основе жизни ученого, а во-вторых, демонстрация духовного единства корпорации историков. В данном случае страсти, кипевшие в ходе идеологических погромов последнего сталинского десятилетия, в канон явно не вписываются.
Спецификой идеологических кампаний «позднего сталинизма» стало то, что они охватили всех без исключения профессиональных историков. А. Я. Гуревич писал о грехопадении московских медиевистов [1750]. Думается, что эту метафору можно перенести на все сообщество, вне зависимости от научной специализации ее членов. Грехопадение было вынужденным, но оттого не менее удручающим. «Академическое дело» начала 1930-х гг. коснулось только небольшой (пусть и наиболее авторитетной) части историков, буря 1937 года смела многих историков-учеников М. Н. Покровского. Но эти события, во-первых, были значительно удалены во времени от советского сообщества историков (думаю, что оно сформировалось только в послевоенное время), а во-вторых, касались отдельных групп, а не всей корпорации. Более того, уничтоженные физически или до смерти запуганные жертвы не могли стать носителями памяти об этих событиях. Истории о страшных 30-х годах существовали в среде в основном в межличностном пространстве: их рассказывали ученикам и коллегам. Иногда намеки проскальзывали и в научных публикациях, но опять-таки это было для посвященных, способных эти намеки понять. О 30-х гг. многие знали, их учитывали в объяснении биографий историков, но поколение, пережившее лихое десятилетие, в 1950-60-е гг. уже сходило с научной сцены. Сходило почти в полном молчании, практически не оставив мемуаров, тем более честных, и поэтому память об этих событиях не стала слишком болезненной.
Иначе было с кампаниями. Их жертв и участников не смела очередная волна репрессий, поскольку режим перешел на новый качественный уровень, а гарантия физической безопасности в обмен на лояльность стала одним из его достижений.
Благодаря этому, осталась среда, способная сохранить (пусть и в «законсервированном» виде) живую (коммуникативную) память о кампаниях, ее антигероях, героях и простых участниках.
В советское время писать или публично вспоминать о кампаниях было невозможно не только из-за лакировки советского прошлого и умолчания репрессивной роли партии. Иногда упоминания об антикосмополитической кампании глухо звучали. Например, их можно обнаружить в мемуарах Н. М. Дружинина «Воспоминания и мысли историка», выдержавших два издания (1967 и 1979 гг.). «Негативные» тенденции вскользь указывались и связывались с «культом личности» Сталина [1751]. В годы, когда «оттепельные» процессы еще не были заморожены, такое было возможно.