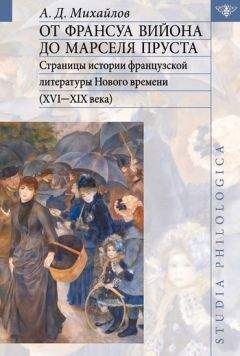Увлеченный своими успехами в светском обществе и своими отношениями с Альбертиной, Повествователь на какое-то время забывает о Сванне. И когда он снова встречается с ним у герцогов и тут же принцев Германтских, перед ним опять новый Сванн. Он все еще элегантен и светск, но ни для кого не секрет, что он очень серьезно, неизлечимо болен. Болезнь Сванна совпала по времени с шумными обстоятельствами дела Дрейфуса, расколовшего, как известно, французское общество. Сванн, естественно, стал дрейфусаром. «Дело» просветило, но не оглушило его. Таким образом, болезнь и «дело» идут рука об руку. Как отмечает Пруст, заболев, Сванн вернулся к вере отцов, в нем росло чувство нравственной солидарности с евреями. Национальные корни начинают неожиданно проступать в нем все с большей очевидностью. «В еврейском остроумии Сванна, – пишет Пруст, – было меньше тонкости, чем в шутках Сванна – светского человека»[617]. Вместе с тем, точка зрения Анри Рачимова, автора книги «Лебедь Пруста», ссылающегося на соответствующие места «Поисков утраченного времени», представляется нам слишком прямолинейной и грубой. Исследователь пишет: «Пруст превращает Сванна в маленького еврейчика, одновременно претенциозного и ничтожного»[618]. И в другом месте своей книги: «Чем больше он еврей, тем в большей мере он сноб и даже хам, вполне тут сопоставимый с каким-нибудь Блоком. Чем в меньшей мере он еврей, тем он более тонок»[619]. Нет, повторим, подобная точка зрения неверна, хотя в постаревшем и больном Сванне еврейские черты в самом деле начинают проступать все с большей отчетливостью. Если вспомнить о прототипах этого персонажа, то можно было бы сказать, что теперь Сванн из Шарля Ааса начинает превращаться в Шарля Эфрусси, к которому, как мы знаем, Пруст всегда относился с большим уважением и теплотой.
Больше живым на страницах книги Пруста Сванн не появляется. Но происходит его посмертная переоценка и осмысление его человеческих черт.
Как мы уже говорили, предощущение близкой кончины Сванна присутствует в его пятом, по нашему подсчету, воплощении – в сценах встречи с ним Повествователя на светском приеме, где Сванн меняется стремительно, буквально за несколько часов. Смерть Сванна была Прустом предусмотрена, и о ней упоминается и в книге «Под сенью девушек в цвету», и в «Содоме и Гоморре», и в «Пленнице». Но рассказ о смерти Сванна первоначальными планами Пруста не был предусмотрен; такого рассказа нет в беловой рукописи. Он появляется, казалось бы, внезапно в «тетради дополнений» (№ 59), переносится оттуда в машинопись и попадает в печатный текст.
Но в «Пленнице» – еще несколько неожиданных «смертей», которые оказываются мнимыми и сюжетом предусмотрены не были. Так, вдруг говорится о кончине доктора Котара, о смерти маркизы Вильпаризи, архивиста Саньета, члена «кланчика» Вердюренов, наконец, о смерти литератора Бергота, сцене, считающейся одним из шедевров Пруста. Однако и Котар, и Вильпаризи, и Бергот появляются и в самой «Пленнице», и в последующих томах прустовской эпопеи.
Заметим, что описание смерти Бергота предшествует рассказу о реакции героя на известие о смерти Сванна, причем эти два фрагмента, являющиеся поздними вставками (описание смерти Бергота – тоже из «тетради дополнений»), почти соседствуют. Когда сделана вставка о Сванне – установить очень легко. В журнальчике «Иллюстрасьон» 10 июня 1922 г. в связи с проходившей тогда выставкой в Музее прикладного искусства «Украшение повседневной жизни в эпоху Второй империи» была воспроизведена репродукция картины Джеймса Тиссо (1836 – 1902) «Кружок Королевской улицы», созданной в 1868 г. О том, что эта картина экспонировалась на выставке, Прусту написал его близкий друг Люсьен Доде 3 июля; Доде, в частности, отмечал в своем письме, что на картине, рядом с другими, изображен «Аас, очень Сванн»[620]. Мы можем примерно определить, когда Пруст получил вырезку из «Иллюстрасьон» с этой репродукцией – в начале августа; 9 августа он благодарил своего друга Поля Брака за ее присылку и сообщал: «Вы привели меня в восхищение вырезкой из “Иллюстрасьон”. Из всех, кто там изображен, я узнал только Ааса, Эдмона де Полиньяка и Сен-Мориса. Но какое удовольствие видеть их вновь! Я все время прошу снова и снова дать мне эту вырезку, она доставляет мне истинное наслаждение»[621]. Так что написана вставка о смерти Сванна была, скорее всего, в середине августа или несколько позже. И написана она была как раз в связи с картиной Тиссо. Именно к ней, к изображенному на ней Шарлю Аасу обращены слова Повествователя, в которых он намеренно (или случайно?) путает персонажа и его прототипа. «Сванн, – пишет Пруст-Повествователь, – представлял собой замечательную личность и в интеллектуальном отношении, и как ценитель изящного, и, хотя он ничего не “создал”, у него были основания для того, чтобы его помнили долго. Дорогой Шарль Сванн, которого я так мало знал, потому что был еще очень молод, а вы были на краю могилы. Тот, на кого вы, наверно, смотрели как на дурачка, сделал вас героем одного из своих романов, благодаря чему о вас заговорили снова, и, пожалуй, вы еще будете жить. Если, глядя на картину Тиссо, изображающую балкон Кружка Королевской улицы, где вы находитесь вместе с Галифе, Эдмоном де Полиньяком и Сен-Морисом, о вас так много говорят, то это потому, что в образе Сванна находят некоторые ваши черты»[622]. Думаю, эти слова обращены к Шарлю Аасу.
А теперь обратимся к смерти Бергота. На протяжении всей эпопеи Пруста постоянно говорится об интересе Сванна к Вермееру (между прочим, в конце «Пленницы» у героя и Альбертины происходит разговор об этом художнике, переходящий в интереснейший разговор о Достоевском), об интересе же Бергота к Вермееру не говорится никогда; лишь в «тетради дополнений» сказано о «Виде Дельфта», «картине, которую Бергот обожал и, как ему казалось, отлично знал»[623]. И однако больной литератор умирает перед картиной Вермеера. Было бы, возможно, эффектно, чтобы так умер не Бергот, а Сванн, но Пруст избегает этого дешевого эффекта.
Описание смерти Бергота построено на контрастах. Она, эта смерть изображена очень реалистически, очень достоверно (мы знаем, что здесь много автобиографического), но приземленно и буднично. Перед тем, как отправиться на выставку, Бергот съел три картофелины (с точки зрения Пруста, обычно евшего очень мало, это, видимо, весьма много); измученный уремией и переполнением желудка, он идет с трудом, уже не очень ясно воспринимая окружающее, он уже не может охватить всю эту прекрасную картину, почти натюрморт (что вообще характерно для Вермеера), несмотря на фигурки людей у края воды, на лодки, готовые отплыть от берега, он смотрит только на «кусочек желтой стены» (их, между прочим, на картине Вермеера несколько) и теряет сознание. Итак, перед нами явный контраст: прекрасная, нечеловеческая и такая человечная, божественная картина – и смертный, земной, слабый, умирающий человек с помутненным сознанием.
Сванн так умереть не мог. Он мог где-то тихо угаснуть, без натуралистических деталей. Он не мог умереть, как Бергот, потому, что он еще и лебедь, прекрасная благородная птица. Как писал В. Н. Топоров, «одна из наиболее разработанных и освоенных литературой мифологем – умирающий лебедь, который в минуту смерти взмывает вверх, навстречу небу и солнцу, издает последний крик (“лебединая песня”...) и, мертвый, низвергается в воду»[624]. Вот как должен был бы умереть Шарль Сванн в своем последнем воплощении.
Роман Пруста «Содом и Гоморра» начинается почти с полуфразы, как бы подхватывая и продолжая фабульные ниточки предшествующего тома «В поисках утраченного времени». Не прочитав этот предшествующий том («У Германтов») или подзабыв его содержание, читатель войдет в новый роман не без труда. Ведь в предыдущем томе уже фигурировали все основные персонажи «Содома и Гоморры», уже был описан парижский особняк герцогов Германтских, во флигеле которого сняла квартиру семья героя; там рассказывалось о светских успехах Марселя, о том, как он знакомился с обитателями аристократического Сен-Жерменского предместья, был принят у многих из них. Кончался том посещением героем герцога и герцогини Германтских, собирающихся на светский раут, куда был приглажен и Марсель. В романе «У Германтов» герой уже любил Альбертину с которой познакомился на нормандском курорте Бальбек, уже обратил внимание на странные повадки барона де Шарлю. Появлялись на страницах того романа и жилетник Жюпьен, имевший мастерскую во дворе особняка Германтов, и скрипач Морель, сын простого камердинера, когда-то служившего в семье героя.
Впрочем, в многочастной композиции прустовской эпопеи картины «Содома» и «Гоморры», этих символов глубокого морального падения современного писателю общества, первоначально не должны были занимать много места. Лишь в ходе работы, когда замысел автора и структура его произведения постепенно усложнялись и уточнялись, эта часть цикла расширилась как в объеме, так и по своей проблематике, заняв в нем, по существу, центральное место. В самом деле, перед читателем подробно и убедительно разворачивается эволюция напряженного воспитания чувств героя-рассказчика, и в этом воспитании теме «содома» и «гоморры» принадлежит организующая и во многом конкретизирующая роль.