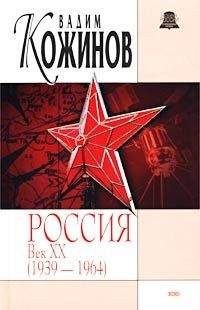Цитируемое послание лишний раз свидетельствует, что разграничение людей 1930–1940-х годов на «сталинских опричников» и «гуманных интеллигентов» не столь легко провести. Ведь Сталин не оправдал выраженных в письме надежд Чуковского, не предпринял предложенных «мер» по созданию детского ГУЛАГа…
Ясно, что для сочинения подобного письма необходимо было вытравить в себе духовные основы русской литературы. И Чуковского, и других авторов этого круга нельзя считать русскими писателями; речь может идти о «революционных», «интернациональных», в конце концов, «нигилистических», но только не о писателях, порожденных тысячелетней Россией.
* * *
А теперь обратимся к тем писателям, которые продолжали в 1930-х годах идти по пути русской литературы, — несмотря на все препятствия. Первостепенное значение для исследования этой стороны дела имеют дневники М.М. Пришвина, в которых богатейшая «фактография», зарисовки конкретных людей и событий органически сочетаются с глубокими — подчас поистине провидческими — размышлениями (к сожалению, пришвинские дневники изданы пока далеко не полностью, да и уже опубликованное только начинает «осваиваться»).
Выше цитировалась запись, сделанная 5 июня 1930 года в дневнике К. Чуковского: «Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же… Сталин, как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир»… и т. д.
Приведу ряд записей М.М. Пришвина, сделанных в период с 18 января по 4 июля 1930 года; вчитываясь в них, не следует забывать, что тетради с этими записями чаще всего открыто лежали на столе писателя — то ли в силу его презрения к опасности, то ли по странному простодушию… Вот фрагменты дневника этих месяцев, расположенные мною по «тематическому» принципу:
1) «Вернулась во всей красе пора военного коммунизма… бессмысленное, жестокое, злодейское разрушение пришло снова… Неужели опять доведут до людоедства? (В 1933-м «довели». — В.К.)… начинается… борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. В наше время это доведено до последнего цинизма. Пока еще говорят «фабрика зерна», скоро будут говорить «фабрика человека» (Фабчел)… Коровы очень дешевы… Вообще это мясо, которое теперь едят, — это мясо, так сказать, деградационное, это поедание основного капитала страны… К вечеру у Карасевых (соседей) произошел страшный разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйте в какую-то другую губернию. Это его как бывшего торговца…»
2) «А.Н. Тихонов (литератор, ближайший сотрудник Горького. — В.К.) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев[557]. Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы (1929–1930 гг. — В.К.) относят не к руководителям политики, а к «головотяпам». А такие люди, как Тихонов… Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей… Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти… и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства»… Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами). Каждый день нарастает народный стон. Ехал со мной юрист (вероятно, из ГПУ)… очень натасканный, но неумный и малообразованный еврей. Характеризовал наш строй как беспримерный образец господства большинства. И вскоре затем раскрылся: «Почему бы не пожертвовать 5 миллионов для благополучия будущих ста?..»
3) «Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей… Самых хороших людей недосчитываешься: честнейший человек в уезде, всеми уважаемый… А.Н. Ремизов сидит в тюрьме. Академик Платонов, которого я слушал когда-то… И какая мразь идет на смену… Встретил искусствоведа из Третьяковки (Свирина) и сказал ему, что для нашего искусства наступает пещерное время, и нам самим теперь загодя надо подготовить пещерку. Или взять прямо решиться сгореть в срубе по примеру наших предков… Свирин сказал на это, что у него из головы не выходит — покончить с собой прыжком в крематорий… Князь (B.C. Трубецкой, младший брат всемирно известного филолога и философа Н.С. Трубецкого. — В.К.) сказал: «Иногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходит».
4) «Читаю Робинзона и чувствую себя в СССР, как Робинзон… Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами… только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов. Сталину:
Среди ограбленной России
Живу, бессильный властелин…
…Сталин человек действительно стальной. Весь ужас этой зимы, реки крови и слез, он представил на съезде (XVI съезд ВКП(б) в конце июня — начале июля 1930 года. — В.К.) как появление некого таракана, которого испугался человек в футляре. Таракан был раздавлен. «И ничего — живем!» (Оглушительные, несмолкаемые аплодисменты.) Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе… как полицейский пристав из грузин царского времени»[558] (через три года Осип Мандельштам словно бы продолжит эту запись, — правда, следуя версии, согласно которой Сталин не грузин, а осетин…)
Последняя из цитированных записей сделана 4 июля 1930 года (на рассвете следующего дня — прошу извинить за сугубо личное «примечание» — родился автор этого сочинения). Но через тринадцать дней, 18 июля, Михаил Михайлович записывает: «…Я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом зле проток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро» (цит. изд., с. 165).
И последующие годы писатель напряженно и мучительно вглядывается в движение жизни, надеясь на «проток», выводящий из тупика. И через пять с половиной лет, 27 января 1936 года в его дневнике появляется следующая запись:
«Историческая цепь. Амнистия исторической личности (постановление о преподавании истории)[559] — явление того же порядка, что и стахановское движение и вся «жизнь стала веселее»… таким образом, общество вступает теперь на тот самый путь, который мне лично открылся как выход из тупика». Пришвин со всей ясностью видит и «другую сторону» и записывает немного позднее, 15 февраля: «Слова «родина», «Великороссия», мелочи быта вроде елочки и т. п., принимаемые обывателем «весело», имеют не меньшее рабочее значение, чем на войне пушки и противогазы… Итак, по всей вероятности, жизнь будет делаться все веселей и веселей вплоть до войны…»[560]
«Жить стало веселее», — слова Сталина из речи на Первом всесоюзном совещании стахановцев, произнесенной двумя месяцами ранее, 17 ноября 1935 года. Над этой «формулировкой» ныне принято издеваться. Но ведь Пришвин вовсе не обольщается: он говорит только о вероятном «выходе из тупика» — пусть даже впереди роковая война, и все делается не столько для людей, сколько для победы в этой войне… Главное для писателя — то, что, наконец, ставится цель созидания, а не разрушения России.
И вот уже, возможно, подзабыв свою приведенную выше запись от 4 июля 1930 года о «полицейском приставе из грузин», Михаил Михайлович 26 июня 1936 года записывает:
«На Кавказе я был ровно 40 лет назад… Помню каких-то грузинских детей, которые меня учили танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке Сталин. Помню несколько молодых людей из грузин, вовлеченных в наш кружок из семинарии…» (с. 10, 11).
Невольно вспоминается, что несколько раньше, 7 февраля 1936 года, другой значительнейший русский писатель этого времени, Михаил Булгаков, принял решение написать пьесу о юности Сталина (завершена в 1939-м)!
Дело, конечно, не только в этой пьесе. Даже ярая «интернационалистка» Мариэтта Чудакова в своем обширном жизнеописании Булгакова вынуждена была признать (правда, сделав это в «примечаниях»), что «Сталин был для него в этот момент (в 1936 году. — В.К.) воплощением российской государственности». Пишет она и о том, что именно слово, употребленное Сталиным в известном телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме («мастер»), оказало влияние «на выбор именования главного героя романа и последующий выбор заглавия» («Мастер и Маргарита»). Наконец, здесь же сказано (правда, уклончиво, не впрямую), что «прототипом» образа Воланда (в частности, в его отношениях с Мастером) был не кто иной, как Сталин[561]. Воланд в романе карает многообразное зло, но это отнюдь не значит, что сам он — воплощение добра. Ибо добро вообще не может карать — на то оно и добро! В Воланде — сатанинская стихия, но вспомним Тютчева: