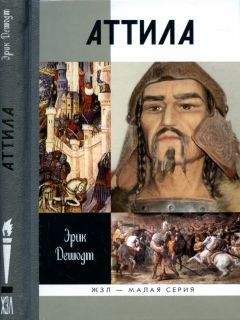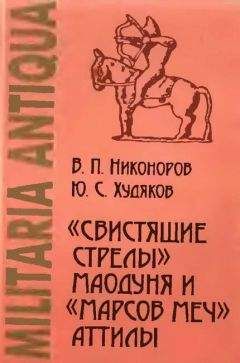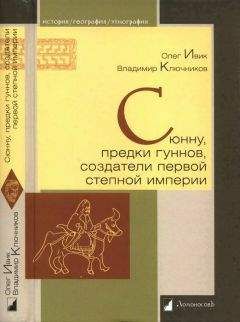Тем временем Эдекон всё еще дежурил под Константинополем, а Онегесию разрешили проникнуть в Македонию. Они вместе составили план кампании. На их пути могли попасться римские войска двух видов: наемники-варвары и дисциплинированные легионы. У гуннов была примерно та же картина. Были классические гунны, степные лучники-индивидуалисты, сроднившиеся со своими лошадьми, и пехотные подразделения, обученные на римский манер, — достойное подражание знаменитым легионам. При каждой стычке в ход пустят те отряды, которые лучше сумеют сладить с врагом. Эдекон в особенности ратовал за сооружение осадных машин, отсутствие которых вынуждало гуннов обходить попадающиеся на пути крепости или брать их измором: в первом случае в тылу оставался непобежденный противник, во втором приходилось тратить время и терять преимущество от скорости.
На эти приготовления требовалось время. Феодосий успокоился. И был неправ.
Онегесий вступил в Македонию в конце 445 года. Родину Александра Великого обороняли плохо. Наемники Каллиграфа заперлись в своих укреплениях и боялись оттуда выходить, оставив всю страну гуннам.
Онегесий не спешил. Он спокойно опробовал баллисты и катапульты, которыми снабдил его Эдекон, на гарнизонах, считавших себя в безопасности за своими стенами. Машины можно было усовершенствовать, но результаты и так оказались неплохие: крепости падали одна задругой, их защитников истребляли — или принимали в свои ряды.
Он перешел в Фессалию, оставив за спиной Олимп. Две римские армии по очереди попытались его остановить. Он бросил на них в лоб свои легионы и охватил с флангов конницей. Обе армии были уничтожены. Те, кто выжил, бежали в Афины или в Константинополь, где, влившись в войска Аспара, способствовали их разложению.
Всё это заняло около полутора лет. Осенью 447 года, оставив Эдекона под Константинополем, Онегесий отправился завоевывать Грецию и дошел до Фермопил.
Итог кампании (хотя проверить это сегодня не представляется возможным) — 85 захваченных и разрушенных крепостей: 19 —в Македонии, 9 — во Фракии и 57 — в Фессалии.
В конце года торжествующий Аттила с большой помпой вернулся в Аркадиополис. Онегесий, прибывший из Греции, устроил маневры своей армии перед Афирасом на глазах у защитников Константинополя. Показательные стрельбы его артиллерии, постоянно усиливаемой новыми машинами, окончательно деморализовали последних солдат Каллиграфа. Аттила решил, что можно начинать переговоры.
Он вызвал Ореста, велел ему связаться с Аспаром, с которым тот был знаком, и дал все инструкции, в которых искусно сочетались жар и холод.
Полководец Феодосия сначала услышал, что император гуннов полон решимости взять Константинополь чего бы это ни стоило, даже если ему придется обнажить границы и набрать наемников в самом Китае для пополнения войск. Если паче чаяния победа будет за Аспаром, Феодосию придется править только трупами и голодающими…
Но Аттила не желает ни покончить с Восточной Римской империей, ни разорить ее. Он хотел только отомстить. Это уже свершилось. Он отплатил сторицей за оскорбления, которые ему когда-то нанесли. Он удовлетворен и хочет только мира. Пусть Феодосий попросит о нем, и всё будет хорошо. Принимая во внимание ситуацию, с просьбой о мире должен выступить именно он.
Какова будет цена? — спросил Аспар. Золото. В основном золото. Конечно, придется кое-где подправить границы, но Аттила хочет золота. Золото всегда завораживало гуннов, напомнил грек Орест римлянину Аспару, и потом, Аттила разорен. Разорен своими завоеваниями.
Аспар всё понял. Отправился в императорский дворец и шепнул Феодосию, чтобы просил о мире, как советует ему Аттила.
Мир? Каллиграф не верил своему счастью. Он-то уже думал, что погиб.
Начались переговоры. Аттила направил на них Скотту (чистокровного монгола, уродливого, грязного, вонючего), чтобы изложить свои условия. Феодосий отказался принять это отталкивающее существо. Пусть обратится к его меченосцу, велел он передать Скотте: тот уполномочен на всё. Меченосец был одновременно главным евнухом. Звали его Хрисафий.
Вот каковы были условия.
Главный евнух подтвердит, что переговоры начались по настоятельной просьбе императора Востока. Это он просит о мире.
Поход, который был вынужден совершить Аттила, повлек затраты, которые надлежит возместить. Хрисафий удивился: пострадала-то Восточная империя. Возможно, ответил Скотта, но поход, ставший необходимым из-за немыслимого поведения императора Востока, расстроил хозяйство гуннов. Нужно возместить ущерб. Хрисафий умолк.
Согласно Маргусскому договору, римлян, бежавших из плена, следовало выкупить за восемь золотых монет каждого. Однако денег недодали, причем существенно. Следовательно, цена увеличивается с восьми монет до двенадцати.
Ежегодная дань, выплачиваемая Восточной империей империи гуннов, возрастет до 2100 золотых монет.
Хрисафий соглашался на всё.
Остается территориальный вопрос, намекнул он всё-таки с тревогой. Об этом после, ответил Скотта.
Феодосий молча подписал договор, представленный ему главным евнухом. Скотта отвез его Аттиле.
Самолюбие Хрисафия было слегка уязвлено, однако он потирал руки. За финансы отвечал он. Именно ему придется собирать дополнительные налоги, которые пойдут на уплату дани. Его личное состояние от этого не пострадает.
Два месяца спустя Скотта вернулся, повышенный до ранга посла. На сей раз побрезговавший им император был вынужден его принять. Главный евнух рухнул с небес на землю: Аттила поручил Скотте проследить за сбором налогов для выплаты репараций. Невероятное вмешательство в чужие дела, несравненная наглость. Феодосий и на это согласился. Скотта со своими счетоводами будет всё проверять. Хрисафий будет кипеть от бешенства и не простит этого никогда.
Вот теперь месть свершилась. Император и Восточная империя — отныне просто слова, само существование которых зависит только от корректности императора гуннов. «Лучше создать новое имя, чем влачить свое», — бросит однажды Вольтер кавалеру де Рогану, упрекнувшему его за псевдоним[16], словно вспомнив Аттилу и Феодосия. Феодосий II был теперь императором только номинально. Что это за император, если он платит дань?
Ситуация, веками господствовавшая в сфере влияния Рима, в корне изменилась: теперь варвары собирали дань. Аттила сохранил свои войска, которые могли бы обломать себе зубы о Влахерны[17], и обогатился. Он был хозяином Европы и ее грозой.
И всё же он не вступил в Константинополь, и вся Европа задавалась вопросом — почему? Из-за некоего тайного договора? Или из слабости? В V веке столица государства имела такое же символическое значение, как и всегда. Вступление в столицу врага было самым неопровержимым доказательством победы. Аттила отказался его предоставить.
Все терялись в догадках.
Якобы Аэций сказал давнему другу: «Ни шагу дальше».
Или Аттила удовлетворился тем, что поставил на колени (почти в прямом смысле) слабого императора; взвалить на себя бремя Восточной империи, добавив его к грузу своей собственной, ему якобы не улыбалось.
Вступить в Константинополь? Тщеславие. Гунн — человек степей, для него города — тюрьмы. Его царство — бесконечность, его столица там, где он сам.
Кое-кто (их мало) наделяет его чувством умеренности, которое есть высшая мудрость. В глазах большинства гунн, неисправимый кочевник, неспособен возвыситься над вымогательством и выбиванием выкупа. Он понял лучше других: разграбить Константинополь было бы замечательно, но содрать с него выкуп еще лучше, изощреннее, поскольку это значит унизить его.
Его противники не хотели признавать за ним такой изощренности. Для них гунн всегда останется гунном. Он может говорить по-гречески и по-латыни, выстраивать самые замысловатые комбинации, проявлять ошеломляющие способности в дипломатии, но он всё равно варвар.
В меньшинстве остаются те, кто считает, что император гуннов и не собирался захватывать Константинополь. В их представлении он исхитрился заставить в это поверить, собираясь на самом деле осуществить иные замыслы, непостижимые как в 448 году, так и в 2005-м. Поэтому их и не принимали всерьез.
И всё же из нагромождения рациональных гипотез выбивается вопрос совершенно другого порядка: а не был ли Аттила сумасшедшим? На сюжет о безумном правителе написано немало книг и поэм. Безответственный монарх (это плеоназм, только об этом мало кто думает) — классика мировой драматургии. В чем же могло заключаться безумие Аттилы?
Страх победить, боязнь раздавить, зайти слишком далеко, слишком высоко, слишком сильно. Нежелание слишком возвеличиться. Не злоупотреблять и так уже несравненными талантами. Метафизическая забота о скромности не только у завоевателей, но и у посредственных людей.