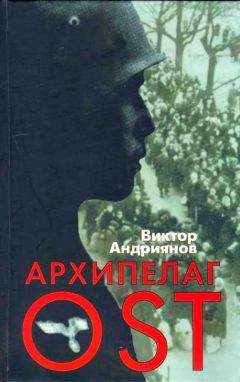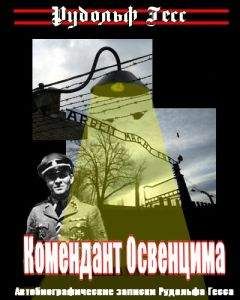11 октября 1942 г. меня, шестнадцатилетнюю, угнали в Германию.
Ночь надвигается, вагон качается,
Ко мне спускается тревожный сон,
Страна любимая не улыбается,
Идет в Германию наш эшелон.
Ночь надвигается, вагон качается,
Ко мне спускается чудесный сон,
Страна любимая мне улыбается.
Идет на Родину наш эшелон.
Поселили нас в бараках, обнесенных колючей проволокой. Повесили номер на веревочке. Как скоту… Я вспоминаю, а в душе все дрожит.
В цехе за нами приглядывал пожилой немец.
Он любил бахвалиться документом на вечное пользование землей на Украине. Когда надсмотрщик отлучался, раздавалась команда: быстрее, девчонки! Мы старались не заливать взрывчатку. Отправляли порожние гильзы. Но уже через 18 дней начались аресты. Два месяца продержали в тюрьме, потом отправили нас в Освенцим. Мне выкололи № 28 735.
После работы мы уносили трупы. Помню, шла в первом ряду другой колонны, а женщина на носилках еще живая, подняла голову, вся избитая, а капо как ударит ее палкой по лицу, кровь так и брызнула на меня. Нам перевели разговор между охраной. «Неужели вам не жалко, ведь это же люди?» — спросил один охранник. Второй ответил: «Если бы я хоть на минуту представил, что эго люди, я бы с ума сошел»».
Насколько же надо было изуродовать сознание человека, чтобы видеть в себе подобных не людей, а животных. Себя они относили к «расе господ», все остальные были холопами, даже хуже — «унтерменшами», недочеловеками. Казалось, человечество вернулось на сотни лет назад. Для «господ» существовал свой мир, своя жизнь, другим в ней места не было — только в качестве рабов, скота, быдла, дикарей. В немецких документах, а потом и в массовом обиходе появилось слово Steppenvolk. Буквально: народ степей. Первобытная, неграмотная орда, далекая от Европы и цивилизации. Кличка рассчитывалась не только на то, чтобы унизить «восточных рабочих» и военнопленных, среди которых было немало людей с высшим и средним образованием, специалистов самых разных профессий. Одновременно она поднимала в своих глазах немецкого обывателя, представителя Herrevolk — народа, призванного править всем миром.
И он воспринимал «восточных рабочих» как положенную свыше дармовую рабочую силу. Бессловесную скотину, с которой можно обходиться без слов. «Я со своим русским разговариваю только ногами», — бахвалился некий немецкий хозяйчик. Эта унижающая человека боль жжет и через годы. «Я неделями, месяцами не слышала родного слова, — вспоминала псковитянка Вера Леонтьева. — Только, когда добиралась до нар в бараке, сама себе что-то шептала, думала, не разучиться бы говорить».
Но кому в Неметчине были нужны переживания рабов?! Везут, заставляют вкалывать, значит, так нужно фюреру, так нужно Германии и ее военному производству, чтобы победить, чтобы править миром.
Система ненависти закабалила миллионы людей. Но она же растлевала и «господ», лишая их всего человеческого.
Приведу несколько писем из Германии. Они были найдены на местах боев и тогда же процитированы в сводках Совинформбюро, в комментариях прессы.
«Моя соседка приобрела себе работницу. Она внесла в кассу деньги, и ей предоставили возможность выбирать по вкусу любую из только что пригнанных сюда женщин».
«У нас пятнадцать человек взяли на завод. Папа не очень доволен, потому что мы получаем сорок русских, они такие тощие. Ну, ничего, им это не вредно…»
«Вчера днем к нам прибежала Анна Лиза Ростерт, — писали из местечка Люгде на Восточный фронт обер-ефрейтору Рудольфу Ламмермайеру. — Она была сильно озлоблена. У них в свинарнике повесилась русская девка. Наши работницы-польки говорили, что фрау Ростерт все била, ругала русскую. Покончила та с собой, вероятно, в минуту отчаяния. Мы утешали фрау Ростерт, можно ведь за недорогую цену приобрести новую русскую работницу».
Нам никогда не узнать имени этой безвестной русской девушки. Для хозяев она была просто «русской девкой», «русской работницей», которую, будто вещь, можно купить по дешевке. Имена рабов и рабынь рассеяны по кладбищам Третьего рейха, по страницам газет, издававшихся для «восточных рабочих». Из еженедельника «Украинець» я выписал скорбные строки:
«Рабочие-украинцы г. Карлсруэ сообщают о смерти своего 17-летнего друга Дитюка Миколы Наумовича из села Юстимовки на Киевщине».
Рядом строки о смерти донбасских ребят — Ивана Белокопыльского, Василия Батюка, Миколы Кравцова — семнадцать, двадцать, семнадцать лет…
Листал подшивку в надежде встретить знакомые фамилии, узнать о судьбах людей, которых разыскивают читатели. Вдруг повезет, и в какой-нибудь заметке мелькнет Иван Захарчук? Нет, в «Украинце» и других газетах его фамилия не встретилась.
«У нас в среду опять похоронили двух русских. Их теперь на кладбище лежит уже пятеро, и двое — кандидаты туда же. Да и на что им жить, этим скотам!»
Комментируя такие письма из Германии на фронт, Алексей Толстой в 1943 году писал, что самое удивительное в них — спокойная уверенность авторов в их праве быть рабовладельцами.
Иван Петрович Рубан, г. Кривой Рог:
«В Линце, на распределительном пункте, точнее, на рынке рабов, я вспомнил сцены из «Хижины дяди Тома». Торг невольниками был осужден уже во всем мире, но германские работорговцы продавали людей и кичились при этом своей цивилизованностью, как и покупатели.
Один за другим к нашему строю подходили респектабельные господа. Присматривались, выбирая самых крепких, сильных. Ощупывали мускулы, деловито заглядывали в рот, о чем-то переговариваясь, ничуть не считаясь с нашими чувствами. Я был маленького роста, хилый и остался среди десятка таких же нераспроданных заморышей.
Но вот высокий покупатель в потертой куртке презрительно оглядел нас, что-то пробурчал себе под нос и пошел в контору платить деньги. За всех оптом».
Картинку рабства из учебника вспомнила и Катя Попова.
«На раскрытой странице картинка: лодка с неграми, закованными в цепи, рядом толстый работорговец готовится отплывать со своим «живым товаром» на рынок. «Бедные, — чуть не вслух думаю я, — их же продавать будут, как лошадей, коров или овец…»
Могла ли догадаться я тогда, что мне самой предстоит пережить ужасы рабства?! Да, меня трижды продавали и покупали, каждый раз ощупывая оценивающим взглядом. Зубы, правда, не считали, но всегда обращали внимание на глаза — мол, почему такие грустные, здорова ли эта «лошадь», повезет ли, будет ли работать, выдержит ли?
Ох, и скрупулезно они отбирали себе рабов, особенно те, кому нужно было мало людей, человек по 10–15. Одна фрау раза три требовала выставить в ряд человек 50 и выбирала. Сразу отобрала тех пятерых девочек из Бобруйска, которых я видела на вокзале у вагона. Они были чистенькие, явно городские, сопровождал их немецкий офицер. Чьи они были дети, что пережили до этого и как сложилась их судьба после — Бог весть. Одна из них прижимала к груди подушку и вытирала о нее слезы. Лицо этой девочки я запомнила на долгие годы.
Я приметила немца, который стоял в сторонке и спокойно ждал своей очереди. Мне показалось, что лицо у него доброе и неплохо было бы к нему попасть. Так и вышло — он забрал всех, кто остался, человек 200, и повез в сопровождении двух охранников в небольшой лагерь в городе Бланкенбурге. Там было пять бараков — три для жилья, два подсобные. Уже по дороге мы поняли, с кем предстоит иметь дело. Мое первое впечатление «о добром шефе» оказалось ложным. На правой руке у него висела резиновая дубинка, и она то и дело прохаживалась по нашим спинам, когда кто-то позволял себе заговорить чуть погромче. Так что очень быстро мы притихли».
«Немцы перебирали нас, как грибы на грибоварном пункте», — это образное сравнение нашла Нина Павловна Прохоренко. Сейчас она живет в уральском поселке Чесма, а в Германию ее увезли летом сорок третьего года из сожженного белорусского села Ясенки вместе с бабушкой, братьями и сестрой отца. «Отец был на фронте, а мать попала в другой эшелон. Словом, горькая неволюшка заела нашу долюшку».
Вместе с матерью попала в Германию и Александра Михайловна Ахрамеева:
«Подошла одна фрау и берет только меня. А маму нет. Представляете, мало того что взяли в неволье, еще должны отнять мать у дочери. Дочь у матери. Мы с мамой обхватили друг друга и зарыдали. Нас не могли оторвать друг от друга. Фрау горланила, обзывала нас «русише швайне», но все-таки нас не разделили».
Николай Яковлевич Скоробреха, г. Старый Оскол, Белгородская обл.:
«После продажи я попал на завод, и с этого времени не стало у меня ни имени, ни фамилии. Я стал номером 41. Эту подневольную метку обязан был носить на себе всюду».