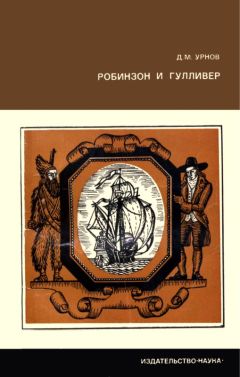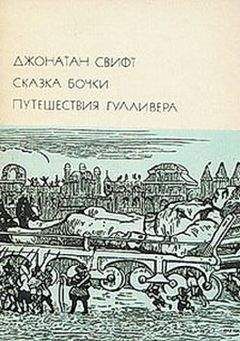Припомните для примера шляпу Гулливера. Ведь Свифт взялся играть мнимой достоверностью мелочей, чтобы разоблачить такую достоверность. Простодушно-доверчивых он терзает видом подробностей вовсе излишних. Но, говорит Гулливер, поступить иначе он не может, коль скоро им взята на себя роль правдивого рассказчика. Лилипуты доказаны, через множество последовательных мелких ощущений и замечаний выстроен лилипутский мир и в нем — Гулливер, пропорционально, материально-достоверно. Уже составлена лилипутами опись всех предметов по карманам Гулливера, и завершилась эта процедура особенно убедительно опять-таки «обратным ходом»: лилипуты осмотрели все досконально, за исключением, правда, одного заднего кармана Гулливеровых брюк, куда не сочли возможным их пустить, там лежали очки и еще некоторые предметы, существенные для надобностей обычного человека и не представлявшие вместе с тем никакого интереса для лилипутов. Чего же еще? Какой еще убедительности нужно? Мы уже готовы, веря всему, всмотреться пристальнее в лилипутскую жизнь, обретшую в наших глазах объем, цвет, движение, словом, жизнь, как вдруг: найден черный округлый предмет неподалеку от того места, где незадолго перед тем нашли лилипуты спящим самого Гулливера. «Я сразу понял, о чем идет речь… Моя шляпа».
Конечно, Робинзон и Гулливер — люди разные, хотя одна и та же эпоха, поставив на них свою печать, сделала их похожими. Гулливер на протяжении всей книги не меняется, он лишь постепенно, от плавания к плаванию, показывает, что он за человек — отважный, спокойный, пристальный наблюдатель. Иное дело Робинзон, который, как и все герои Дефо, пройдя жизненный искус, делается другим или, по крайней мере, хочет стать другим. Оба повествуют о своих злоключениях довольно невозмутимо, только у Гулливера позиция заведомо прочная с самого начала. Себе самому Гулливер ничего не доказывает, он лишь сверяет путевые впечатления со своим ясным, глубоким взглядом на вещи, изначально дарованным ему судьбой, общественным положением. Сын состоятельного джентльмена, прошедший выучку на нескольких европейски прославленных факультетах, Гулливер отправляется путешествовать, понимая свою участь, осознавая судьбу. Совершив несколько плаваний и обзаведясь капиталом, Гулливер покупает в Лондоне дом и женится на дочери состоятельного торговца трикотажем — в точности такого, как Дефо[23]. О, для Дефо Гулливер был бы желанным зятем! Дефо был счастлив, когда любимую дочь ему удалось выдать за книготорговца, образованного и даровитого молодого человека: ступень в достижении жизненной цели Дефо. Он мечется, ищет, добивается, утверждает себя, и тем же намерением утвердить себя, доказать всему свету, каков ты, движимы герои Дефо. А Гулливер таких людей рассматривает спокойно, вроде как лилипутов, лапутян или, еще хуже, иеху. Человек-пигмей перед ним или великан, образованный тупица или дикарь, Гулливер прежде всего зажимает нос и принимает прочие меры предосторожности, чтобы не оказаться к этому существу в чрезмерной близости.
Но мизантропия Гулливера не односторонняя, она имеет своим источником необычайно требовательную меру во взгляде на человеческий материал. Просмотрев панораму истории, Гулливер выбрал ровным счетом шесть истинно достойных фигур — ядро разума, чести, доблести, немногочисленную, но отборную фалангу героев, начинаемую республиканцем Брутом и завершенную (ко времени Свифта) Томасом Мором, автором «Утопии», который поднимаясь за свои убеждения на эшафот, подбадривал палача.
Та же требовательность является и подоплекой поступков Гулливера и создает двойственность впечатлений от них: легкость, ненатужность, с какой делает все Гулливер — берет ли в плен целый флот или рассуждает, — и в то же время его постоянная несвобода.
Психологи, точнее, психоаналитики, для которых Свифт — благодатный материал, разобрали до наивозможных подробностей его натуру, но почему-то не обратили внимания на постоянство этого мотива в книге: Гулливер все время привязан или, по крайней мере, соединен множеством связей с окружающим. В комментариях отмечается лишь, что у Гулливера на левой ноге, когда его приковали к стене, «тридцать шесть висячих замков»: по числу политических группировок, в пользу которых Свифту пришлось писать свои памфлеты[24]. Но ведь прикованным, привязанным, связанным на разные лады Гулливер оказывается во множестве случаев. «Я хотел встать, но не мог пошевельнуться, — рассказывает он о своем пробуждении у лилипутов, — я лежал на спине и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы; а все мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевок». Чтобы перевезти Гулливера с морского берега в город, лилипуты тянут его бесчисленными канатами на телегу и привязывают к ней. Точно так же и лапутяне поднимают неутомимого путешественника на свой летающий остров с помощью веревок и блоков. Дважды Гулливер оказывается в руках у морских разбойников, и они скручивают его по рукам и ногам. Великанам незачем связывать ничтожное существо, однако у них, в Бробдингнеге, Гулливер ежеминутно подвергается опасности быть стиснутым, прибитым, раздавленным; он тонет в молоке, вязнет в коровьем помете, великанский карлик запихивает его в обглоданную кость; с самого начала сажают его в ящик, а в итоге Гулливера страшит перспектива, что ему подыщут супругу, женят и детей их, словно диковинных зверушек, будут показывать в клетках. У великанов, в огромном мире, Гулливеру в сущности так же тесно, как и на улочке лилипутской столицы.
Все это путы, тиски буквальные, видимые, а сколькими обстоятельствами, обязательствами Гулливер связан символически, формально, какое давление, пусть нематериальное, но могучее и всестороннее, он испытывает! Постоянный надзор, толпы любопытных, угрозы нападения, интриги; его могут или отравить, или ослепить, или съесть. У лилипутов Гулливер «получает свободу» на основе договора из девяти пунктов, где с той же определенностью, что и длина цепи, означено: «Человек-гора не имеет права… должен… обязуется…» Опасности, да и небывалые звуки, запахи, новизна впечатлений, которые накапливаются у Гулливера во время удивительных странствий, держат его зрение, обоняние, слух, нервы в постоянном и до крайности повышенном напряжении. Наконец, Гулливеру суждено испытать неудобство и стыд еще от одной связи — его уличают в очевидном родстве с ужасными йеху. И это сходство тяготит его настолько, что он, вроде Мюнхаузеновой лисицы, только добровольно, готов выскочить из собственной шкуры и отречься от своего естества.
Однако если оставить пока в стороне этот последний, особенный случай, то надо сразу же признать, насколько просто и мужественно переносит Гулливер всевозможные стеснения. Стрелы тучей летят в него, выпущенные лилипутами, и жалят булавочными уколами. Характерен в этот момент жест Гулливера: он поднимает руку, стараясь сберечь глаза. Ни напряжения, ни отчаяния нет в его движении, он держит ладонь у лица так, словно решил заслониться от чересчур резкого солнца всего-навсего, а не спасти себя от тысячи чувствительных уязвлений. Свою историю Гулливер излагает обстоятельно и методически, мы тем более верим всему в его устах, что он не забывает ни событий, ни мелочей. Как проходило плавание, как очутился он в неведомой земле, как мог спастись, объясниться с туземцами, как он ел, пил и пр. В то же время Гулливер ни о чем особенно, прежде всего о своих лишениях, не распространяется и всякий раз с тактом опускает подробности, которые могут причинить читателю хотя бы подобие им самим испытанных неудобств, так же, как великодушно освобождает он от веревок отданных ему на расправу лилипутов. Выразительный, однако немногословный в речах, Гулливер не указывает прямо на источник такой нравственной выдержки. Но, кажется, можно догадаться, где он: в глубоком сознании своего положения — судьбы Гулливера, если взять это имя в значении, сделавшемся нарицательным. И вот Лемюэль Гулливер, корабельный врач, а потом капитан, подымается, как настоящий «Гулливер», как гигант, во весь рост, несмотря на то, что, таким образом он становится удобной мишенью для стрел, для насмешек, хотя ему и приходится, раз он Гулливер, влачить за собой груз бесчисленных обязанностей, долженствований, забот. Ни о прощении, ни о сочувствии, даже терпя позор, Гулливер не просит читателей, полагая, что его, по крайней мере, поймут, как вполне понимает совершающееся с ним он сам, Гулливер.
Человек-Гора должен тянуть разом все, отзываясь каждым нервом, каждым мускулом на новые и новые контакты с окружающим. Нужда, обстоятельства, наконец, страсть к путешествиям гонят Гулливера в очередное плавание, тоска по родине и семье зовет его обратно — домой, а между этими полюсами, там, в неведомых странах, он под натиском новизны едва успевает поворачиваться, чтобы во всяком случае встретить неожиданность, злую или добрую, лицом к лицу. Мысль его пульсирует четко и без устали. Вот какая-то невероятная сила подняла Гулливера в игрушечном домике над землей. Гулливер осмотрелся, прислушался, подумал: «Должно быть, орел…» И тотчас, едва успел он, насколько возможно, освоиться с новой сферой своего движения, все изменилось: наверху раздался шум, удары (Гулливер еще раз удостоверился: «орел»), и ящик со страшной быстротой начал падать. Оглушительный всплеск, мрак, потом вновь подъем и — в окнах свет. «Тогда я понял, — отмечает Гулливер, — что упал в море». Он подумал и понял, а между тем дважды кряду от немыслимого подъема и падения у него, как он сам говорит, захватывало дух. Мало ли что! Гулливер должен успеть обо всем подумать — еще одно бремя Гулливера. На протяжении книги Гулливер не однажды поддается несколько неопределенному колебанию чувств, однако он вскоре овладевает собой и обдумывает происходящее.