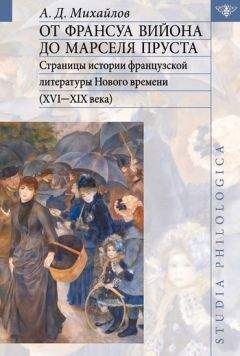Иногда полагают, что «Пленница» и «Беглянка» мало что прибавляют к характеристике персонажей и ничего не вносят в развитие сюжета[638]. Такая точка зрения вряд ли верна. «Цикл Альбертины» представляет собой нерасторжимое целое, а отдельные его части неплохо пригнаны друг к другу. Без пленения девушки и затем без ее бегства любовный опыт героя, столь важный на его пути к обретению правды жизни и правды искусства, не был бы завершен. В «Пленнице» анализ человеческой психологии – и опять-таки в сфере любви – продолжается, достигает новой углубленности и тонкости.
Полное охлаждение к Альбертине, неистребимое желание с ней расстаться, поиски для этого решающего шага необходимого компрометирующего «материала» – все это не мешает герою восхищаться какой-то законченной, завершенной – не классически совершенной, нет! – но спокойной, уравновешенной, гармоничной красотой девушки. Между прочим, здесь, в этой книге, перед читателем появляется совсем уже иная Альбертина, не та, что лихо ездила на велосипеде или отплясывала в бальбекском казино. Она стала не только пассивной и малоподвижной; в ней появилась плавность движений и изящнейшая округлость форм уже созревшей женщины в пору полного своего расцвета. Утратив для героя интерес, не внушая ему больше «перебоев чувства», девушка сохраняет всю свою обольстительность. Пластическая законченность линий спящей Альбертины вызывает в памяти героя-рассказчика картины совершенной природы. Сама девушка кажется ему «длинным цветущим стеблем», а атмосфера ее сна вызывает острое ощущение не просто когда-то виденных, но глубоко воспринятых, пережитых пейзажей. «Ее сон, – рассказывает Марсель, – распространял вокруг меня нечто столь же успокоительное, как бальбекская бухта в полнолуние, затихавшая, точно озеро, на берегу которого чуть колышутся ветви деревьев, на берег которого набегают волны, чей шум ты без конца мог бы слушать, разлегшись на песке». Так Альбертина сливается с прекрасной природой, становится частью природы, возвышенной и вечной. И это резко меняет отношение героя к своей пленнице: «В эти мгновения я любил ее такой же чистой, такой же идеальной, такой же таинственной любовью, какою я любил неодушевленные создания, составляющие красоту природы». Вот в этом, быть может, таится объяснение несколько странного поведения Марселя, который как бы видит насквозь Альбертину, видит ее мизерное тщеславие, ее лживость, узость ее интересов и тем не менее все тянет и тянет эту мучительную для обоих жизнь вдвоем.
Описание спящей Альбертины – одни из лучших страниц книги (недаром Пруст отдал их для публикации в журнале). Девушка выступает здесь не только как часть природы, ее высшее создание, но и как нечто нерасторжимо связанное с искусством. Тема искусства, как всегда в книгах Пруста, играет в «Пленнице» очень большую роль. Здесь эта тема не противостоит другим, – скажем, темам Содома и Гоморры, – она вырастает из них и их стирает, уничтожает, сводит на нет.
Один из центральных эпизодов книги – и эпизод очень длинный (но совсем не затянутый!) – это музыкальный вечер у Вердюренов. Он заканчивается некрасивой ссорой барона де Шарлю с его «протеже» – скрипачом Морелем и изгнанием барона из салона. Так на уровне фабулы. Но смысл этого эпизода в другом. Так ярко, зло, смешно описанный Прустом светский скандал как бы отходит на задний план, теряется, выглядит ничтожным перед вечным величием музыки.
Описание исполнения Морелем септета Вентейля, вернее, самой музыки, отрывающейся от ее земного интерпретатора, позволяет Прусту дать – еще раз – свое понимание искусства как высшей реальности, где переплетаются и наш обыденный опыт, и воспоминания об увиденных когда-то картинах природы и городах, о прочитанных книгах, о продуманном, понятом и пережитом.
Не случайно Пруст пишет о самом абстрактном из искусств – о музыке, наиболее индивидуальном и субъективном для человеческого восприятия. Музыка – и вообще искусство – оказывается действительностью более правдивой, более достоверной и реальной, чем живая жизнь. Это происходит оттого, что к звукам, краскам, сочетаниям слов присоединяется внутреннее переживание, осознание, осмысление каждого конкретного слушателя, зрителя, читателя и всех их вместе. А случайное, необязательное, ненужное в жизни искусством отсеивается и отбрасывается. Подлинное большое произведение искусства воплощает в себе всю жизнь, опыт поколений, множественность восприятия, но одновременно и некую неповторимую, совершенно уникальную самодостаточность и самоценность. И здесь Пруст не противопоставляет величие шедевра профессиональному мастерству, мастеровитости, а видит их неразрывную связь. «Не виртуозность ли, – спрашивает Пруст, – создает у великих художников иллюзию врожденной неукротимой единственности, на поверхностный взгляд – отсвет иного бытия, на самом деле – плод изощренного мастерства?»
Повторяем, Пруст не случайно видит в музыке вершину искусства. Музыка трудна для индивидуальной интерпретации, но одновременно – очень открыта, доступна для нее. И программность музыки не исключает множественности ее истолкования, ее многозначности и отзывчивости. Уже не герой-рассказчик, не юный Марсель, а сам писатель Пруст делится с нами своими глубокими мыслями о музыке, об искусстве, об их сложной связи с жизнью, об обусловленности искусства жизнью и жизни – искусством.
«Когда я отходил от гипотезы, – размышляет писатель, – что искусство может быть реальным, мне казалось, что музыка способна вернуть нам не просто бурную радость погожего дня или ночь после принятия опиума, но опьянение более реальное, более плодотворное, во всяком случае – такое, какое я предчувствовал. Однако нельзя себе представить, чтобы скульптура или музыка, рождающие чувство более возвышенное, чистое, подлинное, не соответствовали некоей духовной реальности, иначе жизнь теряет всякий смысл. Я мог бы сравнить только с прекрасной фразой Вентейля то особое наслаждение, какое мне иной раз приходилось испытывать в жизни, например при взгляде на мартенвильские колокольни, на деревья по дороге в Бальбек или, если взять для примера что-нибудь попроще, во время чаепития, о чем я писал в начале моей книги. Подобно чашке чаю, световые ощущения, прозрачные звуки, шумные краски, которые Вентейль посылал нам из мира, где он творил, представляли моему воображению – представляли непрерывно, но так быстро, что я не в силах был его задержать, – нечто такое, что я мог бы уподобить только пахнущим геранью шелковым тканям».
Так искусство становится не подменой жизни, а самой жизнью, жизнь же становится искусством. В иных случаях высокой эстетической ценностью бывают отмечены, например, счастливые сочетания времени года, пейзажа и архитектуры (таковы в самом конце книги мечты героя о весенней Венеции, куда он все время собирается и куда поедет наконец в «Беглянке», – еще голая природа, солнце, вода и отражающиеся в ней великие архитектурные памятники). Но искусством становится и просто пробуждающаяся или, напротив, увядающая природа, и уличные шумы, вроде столь поэтично описанных Прустом утренних выкриков городских разносчиков и торговцев.
Не подменой жизни, а подлинной жизнью в ее слиянности с искусством становится картина Вермеера «Вид Дельфта», которую пришел еще раз увидеть на голландской выставке смертельно больной Бергот. Его потрясает и умиротворяет даже не сама картина, а лишь ее деталь – кусочек желтой городской стены, так выразительно, так проникновенно прекрасно написанной художником. И символично, что писатель умирает перед этой картиной, поняв ее непреходящую правду.
Искусству и жизни, искусству как жизни противостоит в книге жалкий в своем глупом тщеславии, отталкивающих пороках, совершенно одинокий барон Шарлю. Перед нами – все в том же длинном описании музыкального вечера у Вердюренов – происходит окончательное развенчание этого персонажа (Шарлю выглядит в этой сцене не только опустившимся, неприятным, но и жалким), а также, по сути дела, крушение, полная гибель престижа этого салона, который окончательно лишается в глазах героя какой бы то ни было притягательности. Мы знаем, что Пруст был очень болен, а поэтому торопился. Тем не менее сцена у Вердюренов написана с безошибочной выверенностью пропорций, без излишнего «нажима». Сатирическое мастерство Пруста достигает в этой сцене особого блеска и силы. Писатель и здесь варьирует свои краски, пользуется полутонами, переходит от иронии к гротеску, от резких сатирических нот к юмору, к комическому, и тут же – к напряженному драматизму.
Характерно, что рассказ о пошлом светском скандале следует за страницами, посвященными музыке и полными высочайшего, проникновеннейшего лиризма и философской глубины. Искусство делает мелкими, ничтожными и профессора Бришо, и Ски, и других вердюреновских гостей. Это не значит, что Пруст отвергает все светское общество. Отдельные представители аристократии продолжают интересовать героя, они ему попросту нравятся – какой-то жизненной силой, естественностью, укорененностью в родной почве, с которой их связывает длинная череда поколений. Поэтому Марселю симпатична и герцогиня Германтская с ее чуть мужицкими манерами, и новый персонаж эпопеи – королева Неаполитанская.