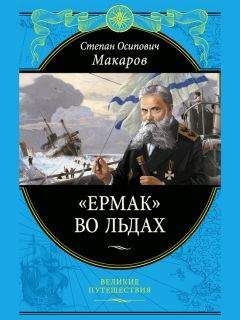Отстояв кое-как вахту, заваливался на койку и часами бездумно глядел в переборку. Время от времени доставал фотографии родных, и становилось вроде полегче. Но ненадолго. Сердце не по одним близким изнывало, а и по дому, по привычной обстановке.
В таких случаях хорошо хоть денек побыть на берегу, потолкаться среди людей, прикоснуться к чужой жизни, походить по твердой земле. Но редко, слишком редко такое счастье выпадает полярному моряку. Под ногами постоянно содрогающаяся железная палуба, глаз упирается в гладкие переборки кают или в толстые стекла иллюминаторов. А выйдешь на прогулочную палубу - за бортом льды и льды, бескрайние белые поля. А как одному? Хоть и говорится, что и один в поле воин, а без подмоги все же тяжко. "Ничего, силенок поднакопим и с этим лихом сладим. Не совсем еще ослабла поморская жила".
Так размышлял и подбадривал себя обессиленный болезнью Алексей.
* * *
С проворством, на которое он считал себя неспособным, Алексей поднялся с топчана и, ежась от холода, шагнул к баульчику, отобрал пару чистого белья, шерстяные носки и верблюжий свитер.
Новое белье обдало холодком, приятным прикосновением свежего полотна. От толстого свитера скоро сделалось тепло, а ногам покойно в толстых носках. Теперь бы в самый раз помыться, хотя бы ополоснуться с ног до головы, освежиться только, и от одного этого, кажется, заново бы на свет родился. Но как? Придется исхитриться.
Оставшиеся вещи Алексей снова уложил в баул, а на самом дне нащупал бумагу. Газета! Пусть сейчас он не может прочитать, голова тяжелая и свету нет, пусть газета старая, может, даже двухмесячной давности, все равно он ее потом обязательно прочитает, так захотелось узнать, что же творится на Большой земле, с которой вот уже сколько нет никакой связи.
До чтения, признаться, он не был большим охотником, так, изредка почитывал из того, что случайно попадало в руки, что советовали товарищи. В библиотеке больше всего обращал внимание на самые захватанные книги, часто с оборванными и даже частично потерянными страницами, простодушно верил, что, раз книга прошла через множество рук, это уж не зря, значит, интересная, на такую стоит время потратить. И только здесь, случайно увидев газету, он впервые пожалел, что под рукой нет хоть какой-нибудь книги.
Приятное ощущение холодка свежего белья прошло, но его все еще знобило. И кажется, пуще прежнего. Улегся поудобнее, подтянул, как в детстве, к подбородку колени и понял, что сделался по-мальчишески тщедушен. Во что же он превратился, как исхудал? Мощи - да и только! Борода отросла, теперь она не щекотала, не царапала кожу, как в первые дни, а мягко облегала весь подбородок. Совсем стариком стал выглядеть. В двадцать-то два! На Большой земле от него шарахаться будут. Ладно, только бы выбраться отсюда...
* * *
Сколько проспал, Алексей не мог определить даже приблизительно. Время утратило меру. Алексей странным образом потерял способность ощущать его ход, чувствовать, течет ли оно, подобно полой воде, или стоит на месте, как в непроточном пруду. Да и дела, признаться, ему до этого нет. Времени было много, непомерно много, и оно было пустое, бесполезное, бессодержательное. Беспамятство - это почти небытие.
Трудно и медленно выходил из небытия Алексей. Выводить его из этого состояния начали жажда и голод. С трудом выпростав ослабевшую руку, опустил и дрожащими пальцами нащупал обжигающе холодную жестянку с водой. Пробуждавшаяся память подсказала, что вода должна быть на исходе.
Время начало укладываться в привычные для него рамки - было и есть. Было время, когда он пополнил запасы воды, но ее все же оставалось мало это четко отложилось в памяти. А вот сколько же потом израсходовал - об этом никаких следов в сознании не осталось. И как ни силился, припомнить ничего не мог.
Жажда на этот раз мучила не так сильно. Но поднять жестянку он не смог, силенок не хватило. Значит, все, дошел до точки. Пришел час садиться на мертвый якорь. Что ж, разом кончатся все муки. Все сжалось внутри и похолодело. Алексей вытянулся, закрыл глаза и с тоской подумал, что теперь никакое сопротивление невозможно...
* * *
Но он не умер. Не угасла в нем та последняя искра, которой жизнь кончается. Силы начали мало-помалу прибывать. Проснулось прямо-таки звериное чувство голода. Алексей сознавал, что жалкие остатки продуктов необходимо экономить строже прежнего, но ничего не мог с собой поделать. А когда поднакопились силы, вскрыл банку сгущенки, которой хватило только на один день. Ел маленькими порциями, и никак не мог не то что насытиться, но даже хоть сколько-нибудь заглушить голод.
Продукты таяли. Чтобы окрепнуть, подняться на ноги, надо есть досыта. Но это значит - конец запасам. А как жить дальше?..
Он почти въяве ощутил, что смерть совсем рядом, ходит вот тут, тихо и неторопливо кружит, выжидает подходящего момента, чтобы покончить одним ударом. Ей спешить некуда, знает, от нее не увернешься, не убежишь.
Ко всему тому, что пришлось пережить, прибавились перебои в сердце, когда рождающийся в самой глубине существа страх предупреждает о наступающей смерти. Особенно тяжело и по-настоящему страшно было, когда Алексей отметил это состояние в первый раз и когда вдруг повторилось раз и другой. И отступило на время. А потом хоть и было страшно, но он уже не так боялся, понял, что смерть пугает, а он не из пугливых.
И все же это выматывало, действовало на нервы. Однажды, не сдержавшись, он закричал в отчаянии:
- Чего же ты, косая, добиваешься? Чтобы я сам наложил на себя руки?..
И все в нем взбунтовалось, воспротивилось, он вернется во что бы то ни стало. Пережив такое, он еще поработает и повоюет.
Алексей с трудом стал одеваться, надел все, что могло согреть, - с голодом неразлучен и холод, пробирающий до костей, благо до них теперь и добираться легче легкого. Хотел выйти и вдруг забыл, куда и зачем, сел, опять безучастный ко всему, без единой мысли...
Так продолжалось час, два, а может, и дольше. Не раз говорил себе: "Сейчас встану, еще одна минута, и поднимусь, обязательно поднимусь". Но проходила минута, еще минута, за ней и пять, и десять.
И снова в странно пустой голове вертелась мысль: на скудном запасе можно продержаться еще какое-то время, возможно, и болезнь пересилить удастся, а надежды на спасение все равно нет. Если трезво все взвесить, то ни одного шанса на спасение не осталось. Нечего себя и обманывать.
Вроде и не он рассуждает, а кто-то другой судит обо всем с беспощадной трезвостью, упрямо загоняет его в тупик, подталкивает к страшной развязке. И когда это доходит до сознания, Алексей протестующе кричит:
- Нет, нет и нет!
Собственный голос похож на простуженное карканье.
Просыпается память. В сознании возникают картины прожитой жизни. Вдруг ясно увидел он деда по матери, Флегонта Парамоновича, который был особенно привязан к внукам, любил с ними возиться, подолгу разговаривать. И они к нему льнули. Дед старенький, с белым пушком на голове, сивобородый, похожий на святого с антирелигиозного плаката. Он прожил долгих восемьдесят три года, хотя особенной силы в нем вроде и не было мелковат ростом, щупл, тонок в кости, легок и несколько суетлив в движениях. Что-то мальчишеское, веселое и озорное донес до самой старости добрый дед.
Большую часть жизни Флегонт Парамонович тяжело трудился в море и на пушном промысле, работая на равных с погодками, отличавшимися истинно мужицкой силой. Много всякого лиха изведал дед, всякое выпадало на его долю, и пережитое цепко до самого конца хранил в памяти.
Как истый помор, Флегонт Парамонович жестоко мучился от ревматизма. На склоне лет даже летом ходил в больших белых валенках с малиновыми узорами по голенищам. Любил тепло, в доме жался к печке, на улицу выходил, когда пригревало солнышко.
Пригревшись, охотно пускался в рассуждения о жизни, припоминал былое. В рассказах его действовали давно жившие люди, даровитые мастера-корабелы, искусные в разных художествах, истые морские труженики, знаменитые кормщики, знатоки морских путей, удачливые и отважные охотники.
Флегонт Парамонович любил заканчивать свои бывальщины поучением: "Человеку на его веку назначено отведать сладкого и горького, счастья и беды. У счастья-то час легкий, а у беды ой как тяжел. В радости всяк богатырь, а беда не каждому по силе. Люди считают счастье своим, а горе чужим. На счастье любой кидается, от беды всяк отпихнуться норовит. А от нее, шалишь, не отпихнешься. Вот ты и держи в голове про тот час беды, исподволь готовь себя к встрече с ней, паскудницей. Счастливого она, может, и минет, да не нам знать, кто в то число попадет. И еще помни: не так беда страшна, пуще того страх перед ней. Беда минет, коли головы не склонишь".
Рассказывал старый помор и о тех, кто одолел все напасти, все беды превозмог, после страшного гореванья домой вернулся, и, как сам Флегонт Парамонович, потом снова на промысел снаряжался, опять попадал в беду и опять выживал. Заносило его и на Новую Землю за пушным зверем, где приходилось пересиливать долгую темную зимовку и где и по сей день дотлевают кости его товарищей, а он, с виду и не богатырь, живым выбирался.