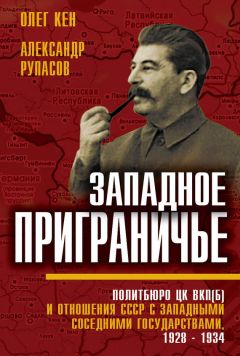Н.Н. Покровский, впервые рассмотревший эту «трудную для источниковеда ситуацию» на материалах 1922–1923 гг., пришел к выводу, что «когда на заседании ПБ принималось постановление «без занесения в протокол», оно не включалось в комплекс документов чернового протокола». Оно записывалось отдельно, в единственном экземпляре и откладывалось в тематических делах Секретного Архива ЦК, причем неизвестно с какой полнотой – «уже сейчас выявляются лакуны». Еще более осторожно крупный источниковед высказывается о мотивах, по которым постановлению Политбюро придавался «беспротокольный» статус[162]. Фрагментарная документация 30-х гг. свидетельствует, что нет оснований отождествлять их с соображениями секретности. Если в протокол Политбюро были включены, например, постановление «О танковой программе»[163] или директивы по мобилизационному планированию и строительству вооруженных сил на 1931–1933 гг., то, если следовать логике «конспирации», непонятно, почему малозначительные коррективы в инструкции Стомонякову по проекту пакта ненападения с Латвией[164] не получили в нем аналогичного отражения. Вероятно, феномен постановлений «без занесения в протокол» отражает не только особый порядок записи решений заседания ПБ, но и своеобразные рабочие процедуры вне рамок таких заседаний, быть может – санкционирование тех или иных решений Сталиным и Молотовым (как в приведенном выше примере с запиской Крестинского об эксгумации останков чехословацких легионеров). В соответствии с заведенным порядком, такого рода малозначительные запросы требовали санкции Политбюро, что вступало в противоречие с физической способностью этого органа к коллективному принятию решений, даже с использованием суррогатной технологии «опроса». Потребности момента побуждали пренебрегать церемониями[165]. Однако легитимность исключения их из сферы полномочий Политбюро наталкивалась на общие соображения централизованного политического контроля, сохранения начал коллективного руководства. Думается, что такого рода дилеммы подталкивали руководство Политбюро к выработке паллиативных решений, одним из которых, вероятно, являлась «беспротокольная» форма фиксирования постановлений, становившихся известными нескольким нескольким руководителям и исполнителям.
Феномен «беспротокольных постановлений», ни тексты, ни само существование которых в 30-е гг. не является твердо установленным, хорошо обозначает пределы постижения механизмов выработки решений на основе доступных источников. При всей важности многокритериальной статистической и содержательной обработки беловых протоколов Политбюро (задачи лишь едва намеченной в работах последних лет), существенное продвижение в этом направлении вряд ли окажется возможным без введения в исследовательский оборот оригиналов протоколов Политбюро, сопровождающих их тематических дел, новых пластов документации из ведомственных архивов. Однако и совокупность этих материалов в некоторых важных случаях неспособна заменить зафиксированного устного свидетельства, независимо от степени его полноты. «По отношению к Польше мы приняли эту политику, – рассказывал руководитель ЦК, оправдывая выбор, сделанный ранее в узком кругу: – Мы решили использовать наши военные силы, чтобы помочь советизации Польши. Мы формулировали это не в официальной резолюции, записанной в протоколе Ц[ентрального] к[омитета], и представляющей собой закон для партии и нового съезда, но между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать – не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»[166]. Приведенные аргументы (и свидетельство Ленина) побуждают расширять поиск источников, отражающих процесс принятия Москвой политических решений.
III
Материалы о руководстве Политбюро советской внешней политикой в 20—30-е гг. не исчерпываются коллекциями оригинальных документов из фондов ЦК РКП(б) – ВКП(б). В качестве достоверных источников исследователями международных отношений и политики Москвы нередко привлекаются мемуарные свидетельства и архивные коллекции (главным образом, немецкие), которые содержат сведения о мотивах и содержании решений Политбюро, позиции его членов. Эти материалы подкупают яркостью и образностью характеристик, планы советского руководства представлены в них с захватывающей ясностью и полнотой.
Классическим примером является повествование В. Кривицкого (С.Г. Гинзбурга) о заседаниях Политбюро летом 1934 г., на одном из которых Сталин наметил курс на сближение с гитлеровской Германией, а на другом «сделал попытку вынудить Польшу сформулировать свою политику в ущерб Германии». «Для решения проблемы», «какой путь изберет Польша», был созван «пленум Политбюро», «Литвинов, Радек, а также представитель Комиссариата обороны» якобы выступили за сближение с Польшей и только начальник отдела ОГПУ Артузов «выразил мнение, что перспективы польско-советского союза иллюзорны». Автор мемуарных записок дословно цитирует отповедь Сталина, «раздраженного таким откровенным несогласием» Артузова «с мнением Политбюро»[167]. Самый поверхностный анализ показывает, что Кривицкий-Гинзбург безнадежно перепутал все, что мог слышать о дискуссиях «в верхах» на эту тему: после заключения польско-германского соглашения о ненападении 26 января 1934 г. обсуждать перспективы «польcкo-советского союза» не приходилось. Тем не менее, уже в 90-е гг. известный своими архивными разысканиями автор в статье о «польском вопросе в истории советско-немецких отношений» пересказал этот пассаж (без ссылок на источник), сопроводив его комментарием: «Заключение польско-немецкого соглашения вскоре подтвердило правильность его [Артузова] прогнозов»[168]. Несообразность утверждения, что события января подтвердили июльский прогноз того же года, побудила автора в последующем снять указание на дату «заседания Политбюро», заменив его осторожным «тогда»; существо пересказа и комментарий были сохранены[169]. «Исправление источника» продолжил другой историк, который, сверившись с протоколами Политбюро и международной хроникой, почел за благо отнести рассказ Кривипкого к «совещанию в Кремле» и датировал его «летом 1933 г.»; это позволило позаимствовать у своего предшественника тезис о том, что вскоре (в январе 1934 г., когда «антисоветская политика Польши стала достаточно [sic] откровенной») «правота Артузова подтвердилась»[170]. Открывшиеся перед исследователями новые возможности верификации мемуарно-публицистического материала оказались использованы для того, чтобы замаскировать его уязвимость и продлить жизнь легенде, обращение к новейшей истории, в том числе деятельности Политбюро, соединилось с рецидивом средневекового повествовательного метода, согласно которому правдивость известия оценивается с точки зрения его соответствия «здравому смыслу», и, если она может быть «улучшена», известие подправляется. Мемуарных и газетных утверждений, подобных рассмотренному выше, немало, однако, они, как правило, являются источниками по иным проблемам, нежели деятельность Политбюро и советская внешняя политика.
Другим крупнейшим резервуаром сведений о советском Политбюро являются коллекции документов из архивов Веймарской республики и Третьего рейха, которые на протяжении 20-30-х гг. поступали в МИД и военную разведку Германии, а позднее в ведомство Риббентропа и адъютантуру Гитлера. Часть из них, посвященная проблемам международной политики, была широко (и без какой-либо критической проверки) использована некоторыми западными авторами[171]. Специальный анализ этих документов за 1931–1937 гг. («Stojko-Informationen» 1931–1933 гг. – сведения о решениях Политбюро, выписки из докладов и цитаты из выступлений на Политбюро; коллекция 1934–1937 гг. – решения Политбюро, выдержки из выступлений его руководителей) показал, что их нельзя считать фрагментами аутентичных записей, сделанных на заседаниях этого органа. Все поступившие в Берлин материалы были созданы одним человеком (или группой лиц), находившимся в Вене или имевшим налаженную связь с австрийской столицей[172]. Используемые в этих документах формулировки напоминали резолюции низового партийного собрания («По представленному НКИД докладу о международном положении Политбюро ВКП(б) на своем заседании от… пришло к единодушному решению, что…»). Зачастую их авторы оперировали общими тезисами (в июле 1935 г. Политбюро якобы поставило перед наркоминделом задачи «укрепления авторитета Лиги Наций с помощью успешного предотвращения вооруженного конфликта между Италией и Абиссинией»; «расширения полномочий Лиги Наций в вопросе применения санкций против агрессора»; «установления возможно более тесного внешнеполитического контакта между СССР, Великобританией, Францией и Италией на основе осуществления системы безопасности и гарантий оказания помощи» «сближения между Малой Антантой и Италией и ускорение заключения Дунайского пакта» и т. д.[173]). Венские материалы содержат и саморазоблачительные красоты, подобные «выступлению Ворошилова на заседании Политбюро в августе 1937 г.»: «В недалеком будущем чехословацкая земля содрогнется от поступи Красной армии, затем придет черед освобождения пролетариата в Австрии, Венгрии, Румынии и Польше. В случае вступления Красной армии в Чехословакию и восстания пролетариата в соседних с ЧСР странах, следует учредить большую наддунайскую республику (Чехословакия, Румыния, Венгрия, Австрия, север Югославии) под чешским водительством, и Балканскую республику»[174]. Неудивительно, что статс-секретарь МИД Германии Б. фон Бюлов, узнав от Папена, что тот регулярно поставляет в Имперскую канцелярию доклады о заседаниях Политбюро вроде тех, которые в начале 30-х гг. приобретались для нужд внешнеполитического ведомства, вынужден был констатировать неразумность расходов на финансовую поддержку венского автора[175].