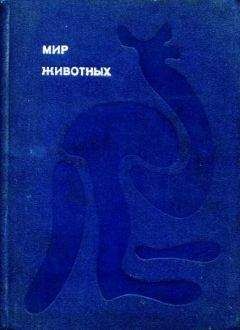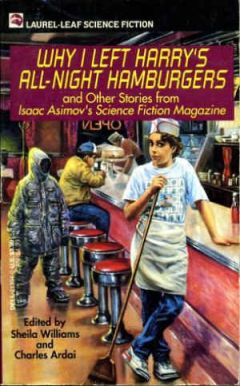Само поведение обеих групп на суде было столь же различно, как и их состав. Старики сидели совершенно разбитые, подавленные, отвечали приглушенным голосом, даже плакали. Зиновьев – худой, сгорбленный, седой, с провалившимися щеками. Мрачковский харкает кровью, теряет сознание, его выносят на руках. Все они выглядят затравленными и вконец измученными людьми. Молодые же проходимцы ведут себя бравурно-развязно, у них свежие, почти веселые лица, они чувствуют себя чуть ли не именинниками. С нескрываемым удовольствием рассказывают они о своих связях с Гестапо и всякие другие небылицы» [154] . Ягода любил доводить дело до конца. «За спиной подсудимых, в самом углу зала, виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой комнате, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик» [155] .
Утром 22 августа подсудимые подали на согласование Молчанову проект своего последнего слова. Бывший уголовник Молчанов всласть поиздевался над бывшими членами Политбюро. Из их покаянных речей были исключены все упоминания об их близости к Ленину и революционных заслугах. Каменеву Молчанов велел заявить, что он не заслуживает снисхождения как предатель, еврею Зиновьеву приказал публично назвать себя фашистом, что оба беспрекословно исполнили. К 23 августа они выучили свои роли и в этот день на глазах у сидевших в зале иностранных корреспондентов и переодетых сотрудников НКВД, изображавших публику в зале (среди них находился и Фельдбин-Орлов, описавший в своих мемуарах поведение подсудимых в последний день процесса) [156] , произнесли свое последнее слово. В ночь с 23 на 24 августа им всем огласили смертный приговор. На рассвете 25 августа их расстреляли в подвале клуба НКВД (ул. Дзержинского, д. 11) в присутствии Ягоды и Ежова. По Фельдбину-Орлову, на расстрел их вел начальник Оперода Паукер. Зиновьев хватал своих конвоиров за сапоги, плакал и умолял отложить казнь, Каменев пытался его утешить: «Перестаньте, Григорий, умрем достойно!» Ягода приказал переслать Ежову сплющенные пули, извлеченные из простреленных голов бывших членов Политбюро, чтобы тот получше помнил о возможностях НКВД.
Казнь этих людей, как ни удивительно, вызвала всеобщее облегчение. Одни (Ягода, Молчанов, Штейн и их подручные) ожидали себе наград за «раскрытие заговора». Другие надеялись, что репрессии если не ограничатся этим делом, то, по крайней мере, пойдут на убыль (среди них был, например, Бухарин, написавший 31 августа в частном письме Ворошилову известную фразу: «Циник-убийца Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая… Что расстреляли собак – страшно рад» [157] ). Но не случилось ни того, ни другого. И страшно радовался Бухарин преждевременно.
Почти сразу Сталин приступил к миттельшпилю задуманной им комбинации. 31 августа неожиданно заместителем Молчанова был назначен Борис Берман (перед этим – замначальника ИНО НКВД). Смысл этого назначения становится понятен, если вспомнить, что братья Берманы возглавляли так называемый белорусско-сибирский клан руководителей ГПУ – НКВД и остро враждовали с Молчановым еще с 20-х гг. По причине этой вражды Молчанов в свое время даже принял решение об уходе из органов ОГПУ, правда, оно не было реализовано. Сохранилось письмо свояченицы Берманов, в котором она описывает, как Молчанов, став «правой рукой Ягоды», «мстил» родне Берманов. Можно себе представить его реакцию на появление у него такого заместителя. Тем более в тот же день, 31 августа, новым помощником Молчанова стал Василий Каруцкий – вышеупомянутый завсегдатай кремлевских банкетов, собутыльник Кагановича. Вряд ли это назначение было инициировано Ягодой, ведь незадолго до этого он снял Каруцкого с прежней должности по порочащим основаниям. Каруцкий вернулся в центральный аппарат злейшим врагом Ягоды и всей ягодинской группировки, которой сходило с рук то, за что он пострадал. Очевидно, что Каруцкий, как и Борис Берман, попал в руководящий состав СПО (секретно-политического отдела) под сильным нажимом из ЦК.
Почему Ягода согласился вернуть в центральный аппарат НКВД Каруцкого? Вероятная разгадка содержится в еще одной черте его характера – крайнем высокомерии. «В обращении с подчиненными, – вспоминает М. Шрейдер о наркоме, – отличался грубостью, терпеть не мог возражений и далеко не всегда был справедлив» [158] . Подчиненных он расценивал как пыль под ногами, не более того. Однажды близкий к нему начальник АХУ НКВД Островский собрал совещание подчиненных ему руководителей. Все это были влиятельные сановники, в чинах, с изрядным партийным и чекистским стажем. Ягода пожелал присутствовать на совещании и взял вступительное слово. «Ну, сволочи, жулики, так вашу мать! – обратился он к замершей от подобного обращения аудитории. – Жены ваши ишь какие задницы разъели, да у вас и самих рожи и пуза – во! – Эти слова Ягода сопровождал соответствующими жестами, рисующими величину и округлость форм упоминаемых им частей тела… – Предупреждаю, что за расхищение и разбазаривание продуктов буду всех вас, как собак, расстреливать… И тебя первого, – ткнул он пальцем в сторону организатора совещания И.М. Островского» [159] . Если Ягода имел привычку употреблять нецензурные выражения и материться на официальных совещаниях [160] , что для него значило служебное перемещение какого-то Каруцкого! Ничего…
Дмитриев уточняет: Ягода в НКВД общался с начальниками отделов центрального аппарата и их заместителями, не ниже. Разговор Ягоды с каким-либо начальником отделения центра или помощником начальника отдела был случаем исключительным, по словам Дмитриева – даже едва ли не единичным [161] . Нарком с высоты своего положения просто не придал значения переводу Каруцкого, посчитав его фигурою незначительной.
В то же время начался процесс перевода прежних помощников Молчанова из центрального аппарата на периферию. Одной из «первых ласточек» стал майор госбезопасности А.Р. Стромин-Строев, начальник СПО-6, которого перевели в Свердловск [162] . Прежний заместитель Молчанова Г.С. Люшков отправился в Азово-Черноморский край [163] .
С начала сентября, чтобы отвлечь внимание Молчанова от этой новой проблемы, ему объявили, что его позиции остаются незыблемы и ему поручено продолжить руководство оперативно-следственной бригадой, которой на сей раз поручили новое, не менее громкое «дело». Это «дело» было начато еще в июле 1936 г. арестом члена ЦК Сокольникова. Партийные «вожди», испытывая в связи с этим смертельный страх, бросились публично проклинать Каменева, Зиновьева и их «сообщников». Член ЦК, замнаркомтяжпрома Георгий Пятаков при встрече со своим давним приятелем Ежовым высказал пожелание лично привести в исполнение смертный приговор арестованным оппозиционерам, включая свою жену, с опубликованием об этом в печати. 21 августа Пятаков и руководитель Информбюро при ЦК Карл Радек опубликовали в «Правде» и «Известиях» свои статьи, в которых клеймили подсудимых как «падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям», от которой «несет на весь мир трупным смрадом», называли их членами фашистской банды «кровавого шута» Троцкого. «Уничтожьте эту гадину! – запальчиво требовал Радек. – Дело идет не об уничтожении честолюбцев, дошедших до величайшего преступления, дело идет об уничтожении агентов фашизма…» «Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду, – подхватывал Пятаков, – Хорошо, что ее можно уничтожить. Честь и слава работникам НКВД!» [164] . Но злорадство Радека и Пятакова оказалось столь же напрасным, как и у Бухарина. В тот же день подсудимые ответили тем, что в судебном заседании назвали авторов обеих статей, а заодно Бухарина, Рыкова и Томского своими сообщниками. 22 августа та же «Правда» опубликовала на первой странице статью под огромным заголовком «Расследовать связи Томского – Бухарина – Рыкова и Пятакова – Радека с троцкистско-зиновьевской бандой». Прочитав статью, М. Томский в то же утро застрелился.
Это был очень трезвомыслящий и предельно циничный человек. В 1922 г. на XI съезде партии под аплодисменты делегатов съезда он заявил: «Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме!» И он не шутил. В дни пресловутого Шахтинского дела, до такой степени шитого белыми нитками, что даже ближайшие сталинские соратники сомневались в целесообразности устраивать открытый процесс, Ворошилов в записке Томскому от 2 февраля 1928 г. поставил вопрос: «Миша, скажи откровенно, не вляпаемся ли мы при открытии суда в Шахтинском деле. Нет ли перегиба в этом деле местных работников, в частности краевого ОГПУ?» Томский ответил: «По Шахтинскому и вообще по угольному делу такой опасности нет. Это картина ясная. Главные персонажи в сознании. Мое отношение таково, что не мешало бы еще полдюжины коммунистов посадить» [165] . Через несколько лет, увидев собственную фамилию среди той самой полдюжины коммунистов, которых «не мешало бы» посадить, он безо всяких иллюзий и проволочек покончил с собой.