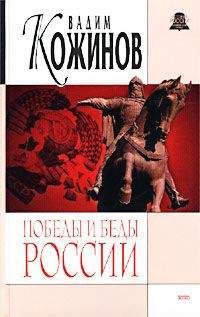Мысль! острый луч! бледнеет жизнь земная.
Несколько по-иному, но в основе своей так же, построено великолепное стихотворение Боратынского, начинающееся медленным и трудным, но внешне спокойным ритмическим движением:
К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим и позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим
И будь счастлива, спокойна наша доля.
Но это только первая ступень саморазвития мысли. Здесь точный стиховой прием; с одной стороны, кажется, что стихотворение (или, по крайней мере, самостоятельная его часть) закончилось, а в то же время как бы повисшая в воздухе рифма внушает: нечто ждет нас впереди. И вот - как это было и в предыдущем стихотворении - вырывается внутренняя энергия стиха:
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.
Особенно характерна предпоследняя строка, буквально задыхающаяся от обилия согласных, от противоречия размера и звукового состава. Она словно материально воплощает то духовное
Нельзя не обратить внимания на то, что противоречие, которое не может быть разрешено... стихотворение Боратынского написано тем же размером, которым написано и приведенное выше стихотворение Языкова "Переезд через Приморские Альпы",- шестистопным ямбом, да еще с такой же системой рифмовки (смежные, то есть откликающиеся в соседней же строке рифмы; к тому же через две строки сменяются женские - оканчивающиеся на безударный слог - и мужские - оканчивающиеся ударением - рифмы).
Несмотря на это, стихи совершенно различны по их ритмическому облику, по характеру ритмического движения. Ибо перед нами неповторимые стих Боратынского и стих Языкова, для которых размер служит только "каркасом".
Стоит привести еще одни стихи Боратынского, написанные пятистопным ямбом - размером пушкинского "Я вас любил..."
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем.
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? - Точный смысл народной поговорки...
Стих поразительно непохож на пушкинский, хотя, казалось бы, у них одна метрическая основа. Стих осуществляет развертывание как бы обнаженного процесса мысли, глубокой и всеобщей. Отсюда эта неприкрашенность, тяжеловатость и даже известная прозаичность стиха, движущегося неровно, без певучей гладкости. В нем самом предметно запечатлелись поиски истины, напряженные вопросы.
С формальной точки зрения решающее значение в этом различии стиха Пушкина и стиха Боратынского имеет, очевидно, тот факт, что в последнем отсутствует цезура, которая делила пушкинский ямб на двустишия, определяя более "легкое" и стройное ритмическое движение. Но, конечно, здесь есть и целый ряд менее существенных отличий, для выявления которых потребовался бы сложный и пространный анализ. Нам важно подчеркнуть одно: несмотря на то, что оба восьмистрочных произведения написаны пятистопным ямбом, их целостный ритмический строй не имеет, в сущности, ничего общего, ибо перед нами неповторимый стих Пушкина и стих Боратынского.
Сошлюсь еще раз на суждения Киреевского о поэзии Боратынского: "...С первого взгляда она покажется обыкновенною; толпа может пройти подле нее, не заметив ее достоинства; ибо в ней все просто, все соразмерено и ничто не бросается в глаза ярким отличием; но человек с душевной проницательностью будет поражен в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа.
Вот отчего нередко случается нам встречать людей образованных, которые не понимают всей красоты поэзии Боратынского и которые, вероятно, нашли бы его более по сердцу, если бы в его стихах было менее простоты и обдуманности, больше оперных возгласов и балетных движений...
Эта обдуманность и мерность, эта благородная простота и художественная доконченность, которыми отличаются произведения Боратынского, не составляют случайного украшения стихов его; они происходят из самой сущности его поэзии... Самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию... Глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу... Все случайности и все обыкновенности жизни принимают под его пером характер значительности поэтической, - ибо тесно связываются... с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаньями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о боге и вечности, о счастье и страданиях, о их цели, следах и поэзии...
Многие ли способны оценить те трудности, с которыми должен бороться Боратынский?" А без этого не понять "всей глубокости и всей поэзии оригинального взгляда на жизнь, которым отличается муза Боратынского..." (цит. изд., с. 49-54).
Все это имеет прямое отношение и к самому стиху Боратынского, ибо в этой содержательной форме его поэзии поверхностный взгляд может увидеть лишь "разногласие и прозу", лишь холодную "обдуманность" и голую "простоту" отсутствие яркости и непреодоленную тяжеловатость. Не сразу оцениваешь те особенные "трудности", с которыми должен был "бороться" поэт...
Боратынский действительно решал труднейшую задачу - стремился подлинно поэтически освоить само по себе движение отвлеченной мысли, заставить мысль жить и развиваться в материи стиха. Эта задача представлялась ему исключительно важной проблемой времени.
Он писал в начале 1830-х годов: "Мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение...
Русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить"33.
Стихи Боратынского, как и должно быть в поэзии, не просто выражают некие мысли, но развертывают перед нами самую жизнь мысли. Поэт вообще считал наиболее существенным не отдельные мысли и концепции - пусть самые верные и глубокие, - а цельное движение и устремление разума. Так, он писал Киреевскому: "Органы наши образовались соответственно понятием, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы все бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же" (цит. изд., с. 524).
Не менее замечательно, что в самом мышлении он видел не просто инструмент познания, а решающую человеческую силу, средоточие человека, которое имеет, в частности, и глубокую этическую ценность и значение. Удивительно следующее его рассуждение, обращенное к тому же Киреевскому (в письме 1832 г.): "Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца... Наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления" (цит. изд. соч. Е. А. Боратынского, с. 519; Виланд - немецкий писатель и мыслитель XVIII в.).
"Высокая моральность" - вот что существенно для Боратынского в мышлении. И обратите внимание: как нераздельно связывает здесь Боратынский стихи и мышление. Для него писать стихи и значило утверждать мысль как человеческую силу и ценность, в которой логика, этика и эстетика - то есть истина, добро и красота - слиты, нераздельно и органически. Воссоздавая в стихе жизнь мысли, он тем самым утверждает не только истинное, но и доброе и прекрасное значение мысли.
Однако погруженность в мысль как единственное "спасение" имеет и трагическую сторону. Это глубоко отразилось в ряде стихотворений Боратынского. Разрыв между мыслью и ее предметным продолжением - реальной деятельностью - ведет к жестокому противоречию и, в частности, к гнетущему распадению духа и тела. Мысль об этом распадении легла в основу потрясающего стихотворения Боратынского "На что вы, дни!."