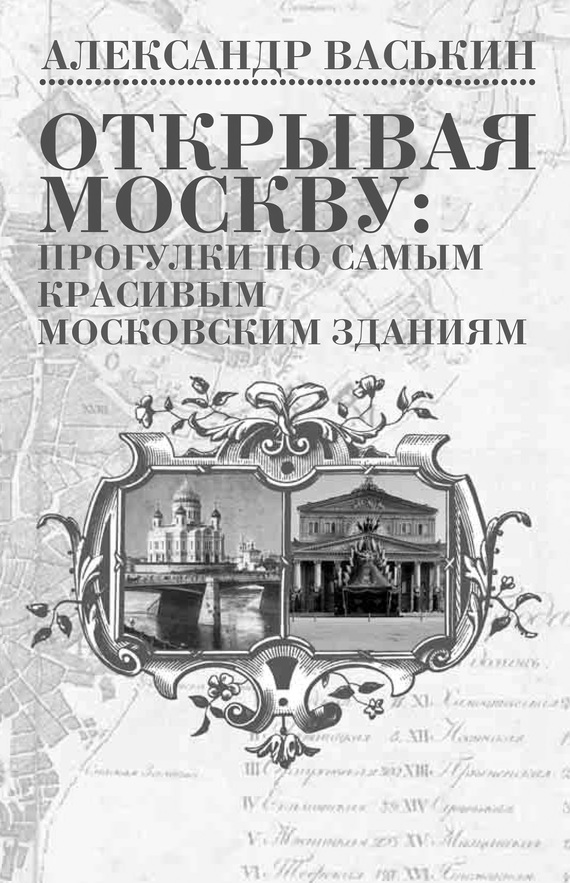привязывались и к нему лично, и к науке. В числе моих товарищей были такие, с которыми случалось мне просиживать по несколько часов, в праздники и в каникулярное время, над решением какого‑нибудь нового вопроса, или придумывая доказательство какой‑нибудь теоремы. С одним из них (Ив. Петр. Шенгелидзев) даже после выхода из пансиона я был долго в переписке по занимавшим нас вопросам такого рода. В свободное время мы с ним хаживали к проф. Перевощикову на обсерваторию (близ Трехгорной заставы), чтобы посоветоваться с ним или просить разрешения какого‑нибудь нашего сомнения и т. п. – Перевощикову считаю я себя обязанным столько же, сколько в детстве был обязан влиянию Заржицкого».
Дмитрий Матвеевич Перевощиков – выдающийся русский ученый, астроном и математик, преподавал в университете с 1818 г., а с 1848 по 1851 г. был его ректором. У Лермонтова имелись все основания войти в число отбираемых Перевощиковым «овец», а не «козлищ», поскольку он серьезно интересовался математикой, в четвертом классе имея по этой дисциплине высший балл. В дальнейшем, учась в школе гвардейских подпрапорщиков, он часто читал книгу Перевощикова «Ручная математическая энциклопедия». Современники утверждали, что «одно время исключительно занимавшийся математикой, приехавши (из Петербурга) в Москву к [А.А.] Лопухину, заперся в комнату и до поздней ночи сидел над разрешением какой‑то математической задачи. Не решив ее, Лермонтов, измученный, заснул. Тогда ему приснился человек, который указал ему искомое решение; проснувшись, он тотчас же написал на доске решение мелом».
«Другая личность, глубоко врезавшаяся в моей памяти, – пишет Милютин, – был проф. Сандунов – маленький старичок, ходивший по‑старинному в ботфортах, а в холодное время надевавший сверх форменного вицмундира синюю суконную куртку. Сандунов в прежнее время служил в Сенате обер‑секретарем и славился как опытный и ловкий делец; достигнув чина действительного статского советника, он держал себя гордо, с достоинством относительно начальства и товарищей по университету; с учащимися обращался с некоторою саркастическою взыскательностью, – почему все: и ученики, и преподаватели, и начальство относились к нему с каким‑то особенным «решпектом». У нас в пансионе он преимуществен но занимался практически судопроизводством и делопроизводством, т. е. заставлял нас знакомиться с сенатскими делами, писать деловые бумаги и т. п. Занятия эти могли бы приносить пользу в применении на службе и в жизни, если б на них уделялось несколько более времени, – что было совершенно невозможно при многопредметности и разнообразии нашего учебного курса.
Проф. Цветаев в молодости своей считался одним из передовых ученых; он был из числа тех профессоров, которые в начале царствования императора Александра I прошли через германские университеты и первые внесли в русский учебный мир новейшие приобретения европейской науки. Но мне довелось слушать лекции Цветаева только на склоне его жизни, когда уже не оставалось никаких следов бывшего некогда блестящего профессора: он обрюзг до безобразия, одевался (как и Сандунов) по‑старинному, говорил невнятно, захлебываясь, и в своих лекциях держался буквально изданного им весьма поверхностного учебника.
Также и знаменитый Каченовский в описываемое время был уже на своем склоне. Затрудняюсь объяснить, почему Михаил Трофимович, специально подвизавшийся на поле русской истории, взял на себя читать в университетском пансионе эстетику, в виде дополнения к курсу словесности, читанному в 5‑м классе сладким и нежным поэтом Раичем. Мы слушали с уважением лекции старого профессора, пользовавшегося авторитетом в ученом мире, но в сущности мало извлекали пользы из его толкований о красоте, грации, изящном и прочем, столь же мало поддающемся догматическому определению и законам теории.
Из прочих преподавателей наиболее симпатичным был М.А. Максимович, бывший впоследствии профессором в Киевском университете Св. Владимира; он читал нам естественную историю, хотя этот предмет не был главною его специальностью и проходился у нас поверхностно, по краткости времени. Прочие преподаватели (в том числе Ал. Мих. Кубарев, заставлявший нас переводить Корнелия Непота и Цицерона и объяснявший нам жизнь древнего мира, преподаватель статистики Изм. Ал. Щедритский и др.) оставили мало впечатлений в молодежи. Упомяну, в виде курьеза, об отставном майоре Мягкове, преподававшем все военные науки в совокупности. По краткости уделяемого на этот предмет времени он довольствовался тем, что каждый из учеников должен был к экзамену заучить один вопрос программы по выданной ему тетрадке. Такому курсу, конечно, никто не придавал серьезного значения.
Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой – тогда еще очень необширною. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтическою школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева (Войнаровский). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так, и я был одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой журнал: «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания. Некоторые из то варищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии (Шенгелидзев, Семенюта и др.), мастерски отделывали заглавные листки, обложки и т. д. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления. По этой части одним из главных участников сделался впоследствии мой брат Николай – страстный любитель театра.
Все эти внеклассные занятия, конечно, отнимали много времени от уроков; зато чрезвычайно способствовали общему умственному развитию, любви к науке, литературе, чтению; а такой результат едва ли даже не плодотворнее одного формального школьного заучивания учебников, особенно при том уровне, на котором в то время стояла вообще педагогика, при тогдашних жалких руководствах и поверхностном преподавании большей части предметов. Тогда учащееся юношество вообще не подвергалось мономании «классицизма», не притуплялось пыткою греческой и латинской грамматики; тогда не было «вопроса о школьном переутомлении».
В средине курса к числу наших товарищей присоединился Константин Булгаков – сын московского почт‑директора, переведенный в наш пансион из царскосельского лицейского пансиона по случаю закрытия этого заведения. Это был бойкий и даровитый юноша, впоследствии получивший в Петербурге известность в числе гвардейских офицеров как остроумный шалун, остряк, карикатурист и забавный собеседник».
Заметки Милютина позволяют нам, за отсутствием свидетельств