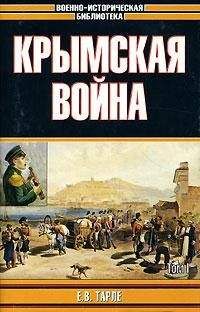Но далеко не всегда старания правительства в этом отношении увенчивались успехом. Реквизиции в провинции наталкивались на ряд препятствий, на единодушное, хотя и пассивное сопротивление землевладельцев, да и прочих классов общества, боявшихся остаться совсем без хлеба. Далее, по признанию самих властей, бесчисленные злоупотребления сопутствовали этой организации продовольствия за все время ее существования. Хлеб, раздававшийся по удостоверениям, бывал часто такого качества, что им боялись отравиться, и при всем желании его иногда невозможно было есть; булочники прибегали ко всякого рода ухищрениям, чтобы продать возможно более на сторону по рыночной цене (поставив в то же время на счет правительства этот хлеб, якобы выданный по удостоверениям).
Эти исключительные милости таким образом весьма мало облегчали положение столичных рабочих.
Рабочие в Париже не переставали роптать также на недостаток других предметов первой необходимости: мыла, масла, свечей, не переставали жаловаться на то, что все предметы потребления сделались объектами спекуляции [124]. Вера в Конвент была еще в 1794 г. так велика, что рабочие говорили, что, если есть злонамеренные (спекулянты), Конвент сумеет их найти [125]. Но с наступлением зимы положение делалось все труднее, особенно тяжело ощущался недостаток свечей, ибо рабочие, работавшие на дому, были лишены возможности что-либо делать по вечерам [126]; между женами их, стоявшими в очереди перед свечными лавками, происходили побоища из-за права первенства в покупке; ропот по поводу дороговизны припасов не прекращался в течение всей зимы 1794/95 г. [127]; и именно на недостаток леса, угля, мыла жалуется городская беднота более всего [128]; 10 декабря 1794 г. в Париже у склада угля произошло большое побоище, длившееся целый день и потребовавшее вмешательства полиции и жандармов [129]. Полиция принуждена была, между прочим, удостовериться в декабре 1794 г., что все «с нетерпением ожидают отмены максимума» [130].
Рабочие стали поговаривать, что существовать становится немыслимо, ибо работы нет, а припасы все дорожают и дорожают, и что придется направить пики против булочников [131]. Рабочие были тем более взволнованы, что у них было убеждение, будто в Париже должны быть припасы, ибо «Париж истощил провинцию реквизициями» [132]. В конце января 1795 г. рабочие уже довольно открыто стали говорить, что, когда у них ничего не останется, они потребуют у купцов и сумеют заставить тех дать, что нужно, так как их, рабочих, 30 тысяч человек [133]. «Как же Конвент хочет, чтобы мы существовали? — толковали рабочие между собой, — закрывают работы в такое суровое время года; хозяева хотят уменьшить нашу плату в то время, как все вздорожало сверх меры, но это окончится» [134]. Чуть не ежедневно полиция регистрировала подслушанные горькие жалобы рабочих [135].
Топливо к концу зимы 1795 г. истощилось до такой степени, что рабочие в Париже жаловались на невозможность продолжать работу из-за недостатка угля [136]. Они, впрочем, одновременно прибавляли, что и вообще они не работают из-за недостатка сырья [137].
Не было леса, не было угля, и правительство тщетно пыталось снабдить Париж рисом за недостатком хлеба: риса не хотели брать, так как нельзя было его варить вследствие отсутствия топлива [138].
Дров в 1795 г. до такой степени не хватало, что Комитет общественного спасения должен был думать о замене леса торфом, т. е. о том, чтобы в Париже и «других больших городах» внести торфяное отопление; об этом был подан доклад комиссии, заведовавшей оружием и порохом, так как она была прямо заинтересована в сохранении леса для нужд оружейных и пороховых заводов [139].
Было подтверждено приказание булочникам продавать рабочим не менее 1½ фунта хлеба ежедневно каждому, но это распоряжение не исполнялось сплошь и рядом, ибо булочники ссылались на недостаток хлеба.
Масса безработных, бедствовавшая в Париже, еще в конце зимы 1795 г. не переставала возлагать свои надежды на Конвент, хотя эта надежда не формулировалась ясно [140], да и нельзя было ее определенно формулировать: причины безработицы, обесценения ассигнаций и вздорожания съестных припасов слишком мало могли поддаться какому-либо внезапному воздействию со стороны власти.
Бедствие в эту зиму дошло до крайней степени; на улицах, в рабочих предместьях раздавался плач женщин, жаловавшихся, что их дети умирают от голода, безработные толпились на улице; но собрания эти, по отзыву полиции, обыкновенно нисколько не нарушали порядка [141]; если доходило до насильственных действий, то обыкновенно между женщинами, чуть не на смерть дравшимися у дверей булочных из-за хлеба [142].
Случаи насилия над булочниками, над торговцами овощами были, но полиция принимала меры и сопротивления не испытывала. Меры были быстрые и очень суровые, и власти полагали, что это — единственное средство сдерживать голодающих [143]. Это решительное вмешательство властей порождало новые толки: «… конституция создана только для богатых» [144], и именно среди рабочих эти толки, как начала опасаться полиция, могли найти почву. «Невозможно передать все ругательства, которые слышатся против правительства… рабочие предместья Марсо (Сен-Марсельского предместья — Е. Т.) говорят, что они восстанут, если их еще 24 часа оставят без хлеба…», — вот однообразное содержание полицейских наблюдений с ноября 1795 г. Ограбления булочников рабочими и их женами все учащались, и не всегда возможно было предупредить это [145].
Положение все ухудшалось. Резкое ухудшение наступило в самом конце 1795 г. В начале декабря 1795 г. за металлический ливр давали уже не 150, а 185 ливров ассигнациями, а в конце — 260; картофель худшего сорта стоил 200 ливров четверик. Такса на хлеб и мясо не соблюдалась, хлеб даже худших сортов нельзя достать дешевле, чем по 50–55 ливров фунт. А рабочий день в конце 1795 г. расценивался в 100 ливров ассигнациями в среднем.
С января 1796 г. стали особенно часто закрываться промышленные заведения в Париже и провинции, и рабочие, на которых все эти беды сыпались без перерыва, говорили, что, может быть, это новая хитрость со стороны аристократии, которая «решительно хочет вызвать восстание», оставляя без заработка бедняков, которые [146], «даже и работая, с трудом могут прокормиться». «Рабочие — на мостовой», — констатируют в это же время посторонние наблюдатели [147]; громадное число закрываемых мануфактур бросается в глаза и полиции [148].
Хозяева, закрывая мануфактуры, уверяли иногда рабочих, что они делают это потому, что правительство, налагая на них «принудительный заем», разоряет их. Рабочие хотели даже собраться в Сент-Антуанском предместье, чтобы протестовать против меры, выбрасывающей их на улицу; и из этой угрозы ничего не вышло [149]. Но самое намерение показывает, как растерянно и беспомощно металась мысль рабочих от «богатых» и хозяев к правительству, от правительства — к «богатым», ища виновников бедствий.
Полная безучастность рабочих при аресте и затем при казни Бабефа имела между прочим то последствие, что полиция перестала особенно интересоваться настроением рабочего класса [150], и для 1797–1799 гг. сведений этого рода у нас очень мало.
Безработица усиливается, припасы дороги — положение в 1797, 1798, 1799 гг. ничуть не лучше, по собственным отзывам полиции, нежели в 1795–1796 гг., но о рабочих, их настроении и прочем почти ничего не говорится. Иногда только полиция упоминает, что теперь уже рабочие в своих разговорах «принуждены не выходить за пределы приличия» [151]. Иногда небрежно упоминается, что по вечерам рабочие толпятся на бульварах и что хотя «более, чем когда-либо, они жалуются на недостаток средств, но их дух» — в пользу правительства; тем не менее полиция даже и эти мирные сборища разгоняет [152]. О том, что рабочие «всех промыслов», вполне «спокойны», прибавляется в эти годы чуть не всякий раз, как вообще заходит речь о бедствиях рабочего класса [153]. Замечания вроде того, что безработные могут в случае какого-либо «толчка» стать очень опасными, крайне редки и случайны [154].
Власти окончательно убеждаются в политической инертности рабочего класса, но они зорко следят, чтобы рабочие, вопреки закону Ле Шапелье, не предъявляли скопом каких-нибудь требований хозяевам. В середине июля 1797 г. ходят слухи о сборищах рабочих, большей частью кузнецов, желающих — полиция хорошенько не знает — не то уменьшить рабочий день, на один час, не то увеличить заработную плату. Принимаются меры наблюдения, — беспокойство оказывается напрасным [155], последствий движения нет.