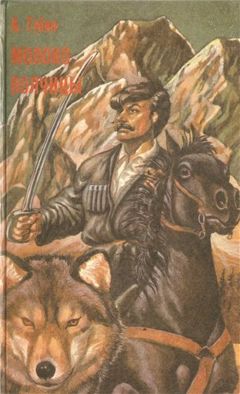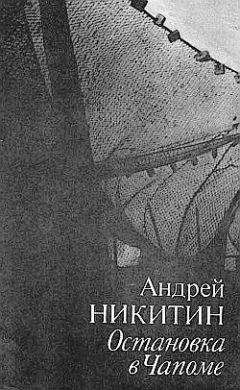— Ничего, ничего, Маруся, — успокаивала ее подруга детства Любовь Федосеевна Маркова. — Все теперь хорошо…
Это с ней Мария присушивала Глеба, ей поверяла тайны, до зари шепталась о счастливом будущем.
Милые дали, изломанные контурами снежных пиков, остались такими же, как во времена их детства, когда они девчонками ходили в степь за лазориками и щавелем. Все ушло, скрылось.
Мария еще помнит, что Синенкины — казаки Хоперского полка. С годами она узнала много и о стране прадеда Тристана. Когда тучи жизни сгущались над ней — а они сгущались часто, она чувствовала себя в плену серебряных гор, и хотелось умчаться птицей в иные края, где нет забот, спокоен сон, где любовь нетленна. Но узы родства крепко держали в горах. А перелететь горы нелегко — очаровывают они навек величием, красотой. Здесь ее родина, здесь ее милый предел, здесь она придет «к намеченной цели».
Глядя на караул гор, она подумала, что вся ее жизнь была прощанием с жизнью, с любовью, с родными — вечное расставание. Иное дело, молодежь эти сразу родились в рубашках. Час ее подходит. Ожидание истекает. Скоро возвратится она в «милую Францию» — иной женщиной с иной судьбой, — она уже видела свой новый дом: старое кладбище закрыли, брат Федор перенес прах родственников на новое, здесь Федька бросил горсть земли на гроб отца, через сорок лет, а тогда, в двадцатом году, не захотел хоронить белого атамана. Туда положат и Марию. Сын Антон так и не вернулся с войны — пропал без вести.
Тянулась, как лошадь в хомуте, чтобы Антону рубашку белую купить с отложным воротником. И лежит эта рубашка в ее сундуке никому не нужная. Она увеличила его карточку, повесила на стене рядом со своей — пять станичных девок лет по пятнадцати, наплоили волосы гвоздем, разогретым на лампе, в белых маркизетовых кофточках, в пышных юбках до земли, с платочками в оттопыренных на сторону пальцах.
— Чего это я разгорилась? — поругала себя Мария и решительно отбросила платок с поясницы. — Наливайте, девки! Полнее лейте! Всего у меня теперь много — и вина, и мучицы, и картошки, и одежи полон гардероб, и Митька помогает, и хата новая, внуки институты кончают — зимой опять в Москву ехать, на свадьбу зовут. Все у меня есть в квартире — полным-полна моя коробушка, есть и ситец и парча… Только жить да радоваться, но уже снятся мне отец с братцем Антоном, к себе зовут, пора мне… Налили, бабы? Ну, давайте я тост скажу: за Спиридона Васильевича!
Вино ударило в голову. И вспомнились повадки предков — чуть захмелели, запрягают и ездят в гости.
«Запрягли» Митькину «Волгу», поехали к Серченкиным, что жили на окраине в белом и зеленоватом от стекла Семиэтажном доме. Под домом, в гастрономе, запаслись бутылками.
В светлой трехкомнатной квартире нарядно и просто, по стенам вьются цветы, полированная, до тошноты однообразная, но для Марии и Спиридона модная, дорогая мебель и, конечно, пианино, приемник, телевизор, холодильник, телефон и даже картины, содержание которых старым казакам неясно, сколь ни тщились они разобрать пестрые мазки.
За рюмкой Спиридону пришла в голову странная фантазия. Он вспомнил, что здесь, где стоит дом, он в детстве пас телят, на зеленых буграх, и любил лежа смотреть в небо, в близкие клочья пышных облаков. Думал ли он тогда, что там, в синеве, в облаках будет теперь стоять их пиршественный стол, на седьмом этаже… Боже мой, вот куда они забрались с Марией — в синь, в облака… Только нет уже под ними тех бугров зеленых, телят и одуванчикового запаха детства. Да и вся гряда бугров за станицей бывала по весне алым ковром лазориков, подсвеченным от самой земли алой же земляникой. Теперь там железобетонные дома, трубы, кабели, асфальт.
Из гостей Спиридон поехал не домой, а в город, после вина захотелось соленой минеральной воды из холодного источника.
Вечернее солнце заливало в парке бюветы алебастровой белизны, вечнозеленые туи, красные камни, клумбы, аллеи, посыпанные морской ракушкой, как драгоценным жемчугом.
Вздрогнул, еще не поняв, что произошло. Спустя мгновенье увидел: среди девушек с челками, в коротеньких юбках, среди парней в стильных брючках в обтяжку, среди разных, но объединенных чем-то общим лиц и фигур, шел смуглый человек, посеребренный временем, с горделивой посадкой плеч и головы. На сухом бледноватом лице чуть горбился крупный нос, темнели короткие усы. Под высоким лбом тяжелые, светлые глаза. Одет в кожаную куртку, плотно облегающую могучую спину, военные галифе и блестящие сапоги. На голове рыжего курпея кубанка с алым верхом.
Спиридону вспомнились щеголи офицеры, как Антон Синенкин. Казак. Он выделялся так разительно, что на него оглядывались. Заложив за спину руки с большими от работы пальцами, шел он не спеша, не замечая людей, будто виделись ему здесь камыши, кислая речушка и чудесные кони предков, открывшие соленые воды.
Спиридон долго смотрел ему вслед — вроде ненашенский, но решил догнать незнакомца. Экскурсия заслонила казака. Когда Спиридон пробрался сквозь многочисленную толпу, его уже не было. Люди шли парами, группами, в одиночку. Спиридон обошел все аллеи, но казак исчез, как призрак первого поселенца, обходящего свои владения.
Был чудный пурпурный вечер, пылали облака. Спиридон суеверно посмотрел на закат — не туда ли ушел казак, в царство пламенно угасающей зари?
Пришло время умирать и Спиридону. Вернувшись домой, опять захворал. Он пытался перебороть немочь старым рецептом — не ложился, но чуял, хватит его ненадолго. И пошел проститься с Михеем.
У обелиска, под которым задремал брат, Спиридону вспомнились слова Михея, и он сказал багряной могиле в гранитной броне:
— Помнишь, Минька, приехать обещался? Уже пора подниматься тебе, а то не узнаешь станицу, и захватывай своих дружков Дениса, Антона…
Послушал ответный лепет огненно-алых цветов и добавил:
— Не узнаете и проскочите мимо станицы, красная кавалерия…
После тяжелого сердечного приступа Спиридона отвезли в больницу. Из крайкома партии в город позвонила Крастерра Анатольевна Васнецова, просила привлечь к лечению Есаулова лучших профессоров. Спиридон лежал в веселой палате инвалидов войны, играл в шахматы, принимал лекарства, строил каверзы врачам. Часами сидел у окна, глядел на Гриву Снега, обнимал глазами милые балки и взгорья — и грустил, и угасал беспричинно.
В больнице его навещали родные и знакомые. Они шли и во внеурочное время, их не пускали, Спиридон горячился, напоминал, что он полковник. Главный врач, старик, знаменитый хирург, жестко ответил ему:
— Здесь нет полковников, депутатов, кандидатов — здесь есть больные.
С утра Спиридон Васильевич репетился — бабка должна прийти с одежей на выписку, врачи разрешили, ему полегчало, да и гости какие-то из военкомата должны быть. И действительно, в палату вошел плечистый военный в куцем халате поверх морской формы. Пришел проведать деда еще один дальний родственник по матери, Николай Афанасьевич Мирный, капитан второго ранга.
— Мирный, Николай, — сказал он, угадав чутьем Спиридона.
— Здорово, Николай, — растроганно поздоровался дед с капитаном. Орел! Вот… вылитый дед! — а какой дед, уже сказать не мог.
— Все казакуете?
— Казакую. А ты моряк, выходит?
— И моряк, и летчик.
— Значит, пересели терцы с коней на железных птиц?
— Пересели, — во все зубы улыбается капитан, засовывая в тумбочку старика апельсины, сыр, флакон зеленого румынского коньяка — был праздник 7 Ноября. Сверху поставил две банки меда. Смеркалось. Тусклый дневной свет, пройдя через мед, упал золотыми короткими лучиками, будто светильники вспыхнули — сгущенное солнце.
Николай увидел на тумбочке деда специальный астрономический журнал, удивился:
— Ты что, Спиридон Васильевич, не в космос случаем собираешься? — И кивнул на журнал.
— Это не мой, вчера один выписался из палаты и оставил нам читать, а так я выписываю кавказскую газету. Но, сказать тебе, Коля, интерес у меня большой, и я в этом деле кумекаю.
— Вроде ты без образования.
— Не скажи. Я в реальном училище учился. Но больше учился натурально, от жизни. В лагере я пилил лес с одним ленинградским астрономом. Слабый был старичок, навроде меня нынешнего, приходилось тянуть пилу за двоих, зато он мне такие картины рассказывал про небеса, планеты и разные… как же он говорил?.. миропостроения, ага! Видно, у него большой спор шел с его научным начальством, в Ленинграде, он будто бы доказывал, что можно лететь на звезды, а над ним, понятно, надсмехались. Пробевал он и мне толковать я ему тоже надсмешки строил. Не знаю, где его косточки, а я дожил: наш, русский, полетел к звездам. Ты, чудом, не слыхал: не из казаков он?
— Нет, мужик, — смеялся Мирный и тут же приврал или предположил от себя: — Слыхал я от одного человека, близкого к тем звездам, что есть в отряде космонавтов и казаки, и будто готовят их в особо дальние полеты, на край Вселенной, мироздания.