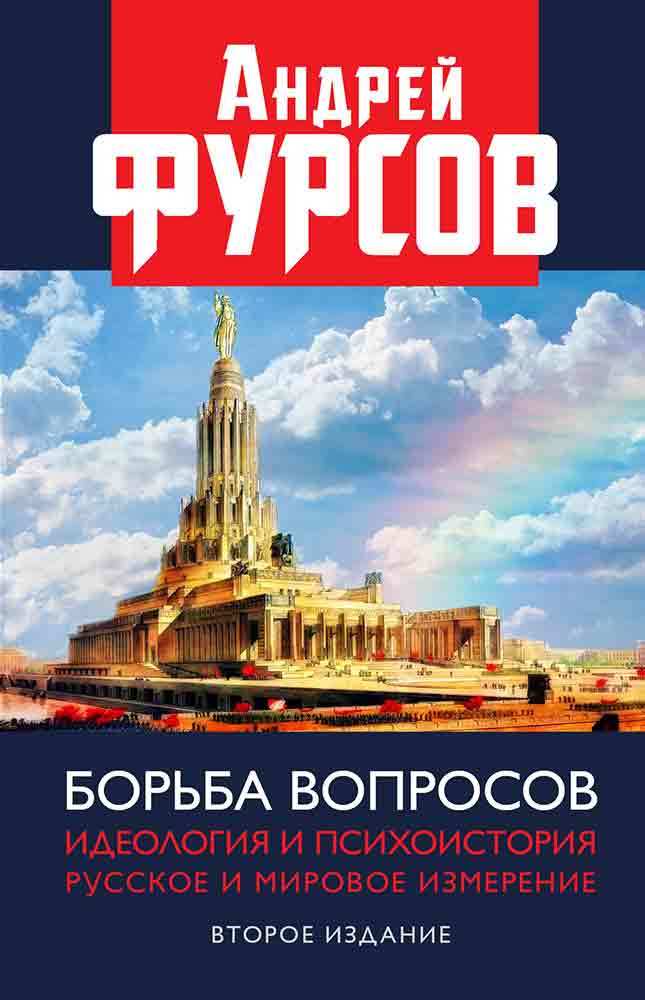Ж. Бенда назвал свою книгу об интеллектуалах начала XX в. «Предательство клерков»).
Это вдвойне так для основной массы так называемой «советской интеллигенции». Дореволюционная интеллигенция действительно могла представлять опасность для большевиков, поэтому первые массовые социальные удары в 1920-е годы обрушились прежде всего на неё, а на крестьянство чуть позже (репрессии против старообрядцев – отдельный вопрос); правда, ещё в ходе гражданской войны превентивный мощный удар был нанесён по казачеству, но это уже русская специфика – такого слоя больше нигде не было; показательно, что по свидетельствам современников, в 1970 г. именно А.Н.Яковлев готовил документ, заблокировавший празднование 400-летия донского казачества, – какая последовательность!
В отличие от слоя, сформировавшегося до революции, который и был интеллигенцией в строгом социальном смысле слова и который в массе своей, как любой продукт социального разложения (отсюда, в частности отношение значительного числа его представителей к русской национальной традиции), особых социальных симпатий тоже не вызывает, «советская интеллигенция» – это просто совслужащие, в лучшем случае наёмные работники умственного труда; в худшем – люмпены, нередко – нечто среднее. Совинтеллигенция так же не была интеллигенцией в строгом смысле слова (хотя претендовала на это), как не было крестьянством коллективизированное бессобственническое сельское население («посткрестьяне»), как не был пролетариатом советский промышленный рабочий-несобственник своей рабочей силы. Показательно, что в шестидесятническом мифе о революции и гражданской войне были только комиссары, крестьянству места не было. Как и в официальной, т. е. квазиклассовой номенклатурной версии. Какое совпадение!
Несмотря на вполне системный характер совинтеллигенции, номенклатура, чья власть была основана на коллективном отчуждении социальных и духовных (включая интеллектуальную деятельность) факторов производства, не доверяла ей как слою («прослойке»), самим своим местом в общественном разделении труда претендующему на присвоение духовных форм (образов, идей, теорий) и оперирование (манипуляцию) ими. И чем дальше и глубже развивался научно-технический прогресс, чем больше было разговоров о научно-технической революции и тех социальных изменениях, которые она несёт, тем сильнее были опасения.
А ещё больше даже не опасений, а страхов (так и вспоминаются сказочные «семь страхов») вызывала у номенклатуры возможность соединения Энергии, растущей и устремлённой в будущее социальной группы научно-технических работников, с Идеей или идеями – иными, чем переживающая очевидный кризис косная официальная идеология, особенно с учётом проявившегося к ней отношения населения и в 1967, и в 1970 гг. (празднование 50-летия Октября и 100-летия со дня рождения Ленина, сопровождавшееся появлением обилия анекдотов о революции и издевательских – об Ильиче). У технократов идеологии, настоящей идейной основы не было, они апеллировали к науке, тогда как у державников-неопочвенников она была. И связана она была с русской традицией. Технократический посткапитализм на основе русской национальной идеологии – кошмар не только для советской номенклатуры, но и для капиталистического класса Запада, особенно если учесть имманентную вне– и антикапиталистичность русских, русской социальной истории и традиции, резко противостоящей не только паре «протестантизм – иудаизм», но и католицизму.
В этом плане экуменизм части верхов РПЦ прекрасно вписывается в стремление части советской, а затем и постсоветской верхушки к интеграции в мировой капитализм в качестве одного из средств, путей и идейных обоснований такой интеграции. По-видимому, экуменизм для верхушки РПЦ может выполнить ту же функцию преодоления православия, какую для советской номенклатуры выполнил либерализм как средство преодоления советской коммунистической идеологии; кстати, связь между экуменизмом и либерализмом очевидна. Отсюда же отношение «чиновников от веры» РПЦ и к староверам, и к представителям ведической религии, т. е. исходно русской традиции, остатки которой изгоняла из православия реформа Алексея – Никона. Но это к слову.
Либеральное западничество шестидесятников и диссиды не очень пугало номенклатуру и в силу ограниченного ареала влияния, и в силу слабости и неукоренённости в русском населении (тем более что многие представители ориентировавшегося на Запад как шестидесятничества, так и диссиды были евреями), и в силу его связей с «истеблишментом», прикормленности его представителей властью. В этом плане либерально-западническая публика могла оказаться и оказалась отчасти попутчиком, отчасти союзником (в роли полезных идиотов) на пути советского «трёхчлена» (часть номенклатуры, часть спецслужб, часть теневиков) в его «светлое постсоветское будущее». Повторю: значительно большую опасность представляли неопочвеннические идеи и настроения, тесно связанные с русской традицией, историей, с огромной массой населения, с архетипами русского этнического сознания, к счастью, так и не перемолотого XX веком. Национальные идеи, «русизм», как сказал бы Андропов, в качестве идеологии передового научно-технического отряда трудящихся – это была интуитивно ощущаемая угроза, страх перед которой и выразил бедолага Яковлев своей статьёй. Бедолага, потому что выдал статью – и это была его служебная ошибка – не по команде начальства, т. е. не по чину, а по велению карьеристского сердца, так сказать, «от чувств-с» по поводу возможного промоушена, являвшегося ему в мечтах как образ дымящейся куриной ножки голодному Буратино. Забыл он, а, может, и не знал гаршинскую историю про лягушку, которая с криком «Это я! Это я придумала!» полетела вверх тормашками и «бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни». Яковлев приземлился удачнее – в Канаде.
Негативно-настороженное отношение к писателям-деревенщикам, которую и власть, и либералы автоматически относили к «русской партии» было не только идеологическим (если о русском мужике Белинский говорил, что тот не религиозен, а суеверен, то о типичном номенклатурщике можно сказать: он не идеологичен, а суеверен, т. е. верит всуе – во всё, что гарантирует карьеру), но и нутряным, шкурно-классовым. Негативное отношение и к национальной традиции, и к патриархальному крестьянству было общим для либеральнозападнического сегмента совинтеллигенции и большей части официальной власти (хотя в ней были также и те, кто симпатизировал «деревенщикам» и русской традиции – не много, но были).
Обусловлена эта общность была по меньшей мере тремя факторами/причинами. Во-первых, это было связано с идеологией марксизма – западной по происхождению, созданной русофобом – из песни слов не выкинешь – Марксом.
Во-вторых, с конкретно-историческими обстоятельствами Октябрьской революции и гражданской войны: теми, кто вышел на первый план после Октябрьского переворота (Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Бухарин и др.), эти события рассматривались как начало и средство мировой (интернациональной) революции, в топку которой Россию и русских они собрались бросить в качестве социального и демографического «хвороста». «Дело не в России, на неё, господа хорошие, мне наплевать, – говорил Ленин в конце 1917 г. Г.А. Соломону, – это только этап, через который мы проходим к мировой революции». Под этой фразой подписались бы Троцкий, Зиновьев, Бухарин и многие другие большевистские лидеры. Но не Сталин. И хотя позднее интернационал-социалисты потерпели поражение и команда Сталина начала строить «социализм в одной, отдельно взятой стране»; и хотя Коминтерн сначала был отодвинут на второй план, а