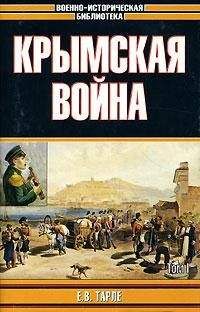Но так как тема наша — не Бабеф, а анализ состояния рабочего класса при революции, то нас заинтересует тут больше всего следующий вопрос: насколько Бабеф считал целесообразным, считал уместным идти к народу и прежде всего к рабочим Парижа с пропагандой отмены частной собственности? Что он рассчитывал главным образом на солдат и, правда, лишь отчасти на рабочих Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместьев [255], это может считаться фактом совершенно точным.
Допросим же документы: они ответят нам совершенно ясно, что сделать уничтожение частной собственности центральным пунктом пропаганды Бабеф не решился ни в казармах, ни в рабочих предместьях.
Обратимся к материалам, которые остались после Бабефа и которые могут дать нам искомый ответ. Это материалы двух категорий: во-первых, статьи и печатные обращения, рассчитанные на пропаганду, и, во-вторых, те данные из захваченных у Бабефа бумаг, которые показывают, как оценивал сам он (и его товарищи) борьбу против собственности в качестве агитационного средства.
Так как нас тут интересует, повторяю снова и снова, не деятельность этого человека, взятая в целом, не генезис и эволюция его идей, то хронологические рамки расследования должны быть ограничены последними полутора годами его жизни, начиная с того времени, когда в нем постепенно стала созревать мысль о возможности вооруженной борьбы против установленных властей.
После падения Робеспьера он издавал (от начала сентября до начала октября 1794 г.) газету «Journal de la liberté de la presse», в которой боролся против наступившей «термидорианской реакции». С конца января 1795 г. до 24 апреля 1796 г. он издает газету «Tribun du peuple ou le défenseur des droits de l’homme», которая является, как указывает ее подзаголовок [256], прямым продолжением предшествовавшей. Сохранена нумерация (первый номер «Tribun du peuple» помечен цифрой 29; пагинация тоже сохранена; первая страница новой газеты считается 259-й; ибо последний номер «Journal de la liberté de la presse» окончился 258-й страницей). По-прежнему темы политической действительности, борьба против «термидорианцев» поглощают почти все его внимание. Но и вопросы социально-экономического порядка время от времени привлекают его внимание. Так, в первом же номере новой газеты он посвящает несколько строк распоряжению Комитета общественного спасения от 16 фримера, которым, как выше было уже сказано, поденная плата, принятая до сих пор в оружейных мастерских, заменена была сдельной и одновременно сокращались штаты рабочих, причем те оружейники, которые окажутся лишними, должны были отправиться в действующую армию. Бабеф с состраданием говорит об участи их семейств [257]. Уничтожение закона о максимуме вызывает у него несколько слов порицания относительно «торгашеских душ» (toutes les âmes boutiquières et marchandes) [258], но он только регистрирует самый факт, не вдаваясь в анализ этого мероприятия. Несколько иронических строк посвящает он также (приведенному нами в главе о максимуме) воззванию Конвента, сопровождавшему отмену закона [259].
Он даже склонен считать положение правительства непрочным именно потому, что масса, по его мнению, страдает. Любопытно, что он еще в начале 1795 г. считал Робеспьера тираном, но полагал, что тирания его была устойчива вследствие того, что народ при нем не нуждался (как полагает Бабеф) в предметах первой необходимости и в работе [260], и заработок рабочего был хорош. Все это и сделало тиранию Робеспьера устойчивой (on pouvait par ce moyen stabiliser la tyrannie). Мы знаем, что экономической идиллии, которую рисует здесь Бабеф, при Робеспьере не было, но не в том дело: это место интересно для нас в высшей степени потому, что оно дает как бы ключ, разгадку Бабефа в последней фазе его деятельности, к которой он уже приближался. В том же 1795 г. Бабеф перестает окончательно считать Робеспьера тираном.
Тут кстати будет заметить, что, судя по некоторым заявлениям Бабефа, можно было бы заключить, что и в самом деле он еще в 1796 г. недалек был от взгляда на конституцию 1793 г. как на идеал социальной справедливости, а не только как на орудие для достижения «фактического» равенства, и что падение того же Робеспьера он рассматривает как событие, помешавшее упрочению вечного счастья народа [261]. По его мнению, чуть ли не один только Робеспьер желал дать народу не фикции, а реальное благополучие [262]. Как упомянуто выше, уже в «Манифесте» Бабеф более определительно придал конституции 1793 г. лишь значение «большого шага» к установлению всеобщего счастья и фактического равенства. И еще незадолго до своего ареста он с жаром отстаивал экономическую политику Комитета общественного спасения 1793–1794 гг. и считал законы о максимуме и реквизициях спасительными; а все зло пошло, по его мнению, с 9 термидора, ибо после падения Робеспьера максимум был отменен и наступила дороговизна. Все это высказывается без каких бы то ни было доказательств [263], но нам тут важно отметить, что эпоху господства максимума и реквизиции он считал, вопреки фактам, временем благополучия, и даже такого, когда «все шло как нельзя лучше».
Но обратимся к программной статье «Tribun du peuple». Тотчас после рассуждения о том, что материальное положение народа, рабочей массы при Робеспьере было хорошо и что это сделало его тиранию устойчивой, Бабеф излагает свою социальную философию: это было со стороны Робеспьера, может быть, единственным средством упрочить свое владычество, ибо «большинство граждан по природе любит покой, только и хочет уйти от дел и жить спокойно у своего очага», и если жизнь у очага хороша и есть довольство, то охотно предоставляет дело управления тому, кто поддерживает такой порядок вещей, а на попрание великих принципов легко закрывает глаза [264]. И вот почему он называет людей, находящихся у власти теперь, после Робеспьера, «самыми неловкими из всех тиранов», ибо у народа нет работы, цены непомерно растут и т. д. «24 миллиона» голодающих он противопоставляет «одному миллиону богатых» и находит положение правителей трудным. Тут же он ставит в своей газете впервые прямой вопрос: должен ли и может ли народ восстать, и отвечает утвердительно. Пример легкости революционной победы в 1789 г. соблазняет его, и он многократно к этому примеру возвращается.
Итак, низвержение ненавистного ему строя он уже с начала 1795 г. связывал логически с необходимостью заинтересовать в этом деле голодающую массу, причем был убежден, что только материальная нужда и надежда на улучшение материального положения могут подвинуть на это народ.
Бабеф понимал свою историческую роль так, что он призван разъяснить народу смысл и революции уже совершившейся и той, которую, по его мнению, еще надлежало совершить [265], а смысл этот он видел в установлении строя, при котором «удовлетворялись бы нужды народа». Он признавал, что «пока» (т. е. вплоть до 1795–1796 гг. и в эти годы) народ не только ропщет на революцию, но с грустью вспоминает о временах королевского владычества [266]. И первоначальный план кампании Бабефа именно и основывался на том, чтобы поддержать республиканский принцип в глазах народной массы, а это, по его мнению, возможно было сделать, только осуществив «реальное» равенство взамен «химерического» [267], в которое народная масса не верит и которого не понимает. Для него идеал политический — демократическая республика — и идеал социальный — уничтожение экономического неравенства — связываются неразрывной связью. По мнению Бабефа [268], революция 1789 г. была «войной между бедными и богатыми, между плебеями и патрициями», эта война не прекратилась, но для «плебеев», для «бедных» она затрудняется тем, что их противники внушили им убеждение, будто существование бедности — в порядке вещей, нечто вроде закона природы [269]. Главное установление, обусловливающее преимущество богатых над бедными, есть право собственности.
«Фактическое равенство не есть химера», полагает Бабеф и приводит такое доказательство: «… опыт был счастливо предпринят великим трибуном Ликургом. Известно, как ему удалось установить эту восхитительную систему, где общественные повинности и выгоды были распределены равным образом, где довольство было неутрачиваемой долей каждого и где никто не мог получить излишнее» [270]. От Ликурга он непосредственно переходит к Христу, затем к Жан-Жаку Руссо, с хвалой отмечая принцип, высказанный Руссо: «… pour que l’état social soit perfectionné, il faut que chacun ait assez et qu’aucun n’ait trop». Эти слова Руссо кажутся Бабефу «элексиром общественного договора».
От Жан-Жака Руссо он переходит к Дидро, который протестовал против честолюбия и алчности [271], а от Дидро — к Робеспьеру и Сен-Жюсту (Робеспьера он считает автором слов, содержащихся в «Декларации прав», предпосланной конституции 1793 г.: «… цель общества — всеобщее счастье», а из Сен-Жюста цитирует фразу: «несчастные — это сила на земле, они могут говорить как господа с правительствами, которые ими пренебрегают») [272]. Кроме всех этих лиц, он цитирует еще депутата Армана, который в апреле 1793 г. говорил о «фактическом равенстве» и между прочим сказал: «… не будем доискиваться, могут ли существовать по естественному закону собственники и не имеют ли все люди одинаковое право на землю и ее плоды».