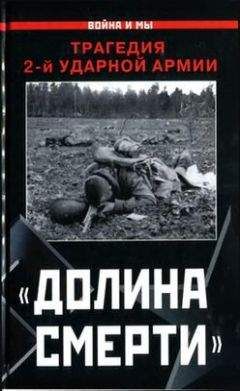Здесь, однако, мы должны вместе с огорченными историками того времени заметить, что в ту минуту, как епископ Талейран, в длинной мантии, митре и трехцветном поясе, заковылял по ступеням Алтаря, чтобы произвести свое чудо, небо вдруг помрачнело: засвистел северный ветер, предвестник холодной непогоды, и полил настоящий, все затопляющий ливень. Грустное зрелище! Все тридцать рядов кругом амфитеатра покрылись тотчас же зонтами, обманчивой защитой при такой толпе; наши античные кассолетки превратились в горшки для воды, смола для курения шипит в них, превращаясь в грязный пар. Увы, вместо "виват" слышно только яростное падение и шорох дождя. От трехсот до четырехсот тысяч человек чувствуют, что имеют кожу, по счастью непромокаемую. Шарф генерала мокр насквозь, все военные флаги повисают и не хотят больше развеваться и вместо этого лениво хлопают, точно превращенные в расписанные жестяные флаги! Но еще хуже, по свидетельству историков, было положение ста тысяч красавиц Франции! Их белоснежные кисейные наряды забрызганы грязью; страусовые перья постыдно прилипают к своему остову; шляпы потеряли форму, их внутренний каркас превращается в месиво: красота не царит уже в своем прелестном уборе, подобно богине любви, обнаженной и закутанной в прозрачные облака, а борется в нем, как в тяжелых цепях, так как "формы обрисовываются", слышны лишь сочувственные восклицания, хихиканье, в то время как только решительно хорошее настроение может помочь перенести невзгоду. Настоящий потоп: непрерывная пелена или падающий столп дождя. Митра нашего верховного пастыря тоже наполняется водой и становится уже не митрой, а переполненным и протекающим пожарным ведром на его почтенной голове! Не обращая на это внимания, верховный пастырь Талейран производит свое чудо: благословение его, несколько отличное от благословения Иакова, почиет теперь на всех восьмидесяти трех департаментских флагах Франции, которые в благодарность развеваются или хлопают как могут. Около трех часов снова проглядывает солнце, и остающиеся церемонии могут быть закончены при ясном небе, хотя и с сильно попорченными декорациями.
В среду федерация наша заключена, но празднества продолжаются еще эту и часть следующей недели - празднества, заменяющие пиры багдадского калифа и волшебника Аладдина. На Сене происходят гонки судов с прыжками в воду, брызгами и хохотом. Аббат Фоше, Те Deum Фоше, "в ротонде Хлебного рынка" произносит надгробное слово о Франклине, по которому Национальное собрание недавно три дня носило траур. Столы Мотье и Лепелетье все еще завалены яствами, и потолки дрожат от патриотических тостов. На пятый вечер, в воскресенье, устраивается всеобщий бал. Весь Париж, мужчины, женщины и дети, в домах или на улицах танцуют под звуки арфы или четырехструнной скрипки. Даже седовласые старики пытаются здесь, под изменчивой луной, еще раз подвигать в такт своими старыми ногами; грудные дети, не умеющие еще говорить, кричат на руках и барахтаются, нетерпеливо расправляя свои маленькие пухлые руки и ноги, в бессознательной потребности проявить свою мышечную силу. Самые крепкие балки изгибаются более или менее, все пазы трещат.
Но взгляните на развалины Бастилии на лоне самой матери-земли. Везде горят лампочки, везде аллегорические украшения, и гордо высится шестидесятифутовое дерево Свободы с таким чудовищной величины фригийским колпаком, что король Артур со всем своим Круглым столом[57] мог бы обедать под ним. В глубине при тусклом свете одинокого фонаря замечаем одну из полузарытых железных клеток и несколько тюремных камней - последние остатки исчезнувшей тирании; кроме этого видны только гирлянды лампочек, настоящие или искусственные деревья, сгруппированные в волшебную рощу, над входом в которую прохожий может прочесть надпись: "Ici l'on danse" (здесь танцуют). Таким образом, сбылось смутное предсказание пророка и шарлатана из шарлатанов Калиостро[58], сделанное им четыре года назад, когда он покидал это мрачное заточение, чтобы попасть в еще более ужасную тюрьму римской инквизиции, так и не выпустившую более своей жертвы.
Но что значит Бастилия по сравнению с Champs-Elysees? Сюда, к этим полям, справедливо называемым Елисейскими, сами собой направляются ноги. Гирлянды лампочек освещают их, как днем, маленькие масляные стаканчики прелестно украшают, наподобие пестрых светлячков, самые высокие сучья; деревья словно залиты пестрым огнем и бросают свое сияние далеко в лесную чащу. Здесь, под вольным небом, стройные федераты кружатся в хороводе всю эту благовонную ночь напролет с новообретенными красотками, гибкими, как Диана[59], но не такими холодными и суровыми, как она; сердца соприкасаются и пылают; и конечно, редко приходилось нашей старой планете спускать покров своей огромной конической тени, называемой ночью, над подобным балом. Если, по словам Сенеки[60], сами боги с улыбкой смотрят на человека, борющегося с превратностями судьбы, то что же они должны были думать о двадцати пяти миллионах беззаботных, побеждающих свои невзгоды в течение целой недели и даже более?
И вот праздник Пик дотанцован таким образом до конца; галантные федераты возвращаются домой во все четыре стороны с возбужденными нервами и разгоряченными сердцами и головами; некоторые из них, как, например, старый, почтенный друг Даммартена из Страсбурга, совсем "сгорели от алкоголя", и жизнь их близится к своему концу. Праздник Пик дотанцован до конца и стал покойником, тенью праздника. Ничего от него не осталось, кроме образа в памяти людей и места, которое его видело, но уже более не видит, так как возвышения на Марсовом поле обвалились наполовину. Праздник этот был, несомненно, одним из запоминающихся народных праздников. Никогда не приносилась присяга с таким переполненным сердцем, с таким чувством и избытком радости, и едва ли когда-нибудь это повторится, и все же она была непоправимо попрана через год и день. Ах, зачем? Если присяга доставляла такое неизреченное наслаждение, если грудь прижималась к груди и в сердцах двадцати пяти миллионов одновременно зажигался огонь энтузиазма, то почему же она нарушена, о неумолимые властители судеб, почему? Отчасти именно потому, что она приносилась в таком порыве радости, главным же образом вследствие более старой причины: грех пришел в мир, а вместе с грехом и бедствия. Эти двадцать пять миллионов в своем фригийском колпаке не имеют теперь над собой власти, которая руководила бы и управляла ими, и не имеют в самих себе руководящей силы или правил для разумной, справедливой жизни. И если все несутся гигантскими шагами по незнакомой дороге без цели и без узды, то как же не произойти невыразимой катастрофе? В самом деле, ведь розовый цвет федерации не цвет нашей земли и не ее дело; человек должен бороться с миром не порывами благородных чувств, а совсем другим оружием.
Во всяком случае не разумнее ли "беречь свой огонь для жениха", заключая его в душе, как благодетельный, животворящий источник теплоты! Все сильные взрывы, как бы хорошо ни были они направлены, всегда сомнительны, большей частью бесполезны и всегда разрушительны; представьте себе человека или нацию, которая израсходовала бы весь свой запас огня на один искусственный фейерверк. В жизни приходится видеть браки по страстной любви (ибо люди, как и нации, имеют свои периоды расцвета), заключенные с такими проявлениями торжества и радости, что старики только качают головами, Спокойная веселость была бы более уместна, потому что шаг делается важный. Безрассудная чета, чем больше ты торжествуешь и чувствуешь себя победительницей всего земного зла, которое кажется тебе исчезнувшим с земли, тем больше будет твое изумление и разочарование, когда ты откроешь, что земное зло все еще существует
"Но почему же оно все еще существует?" спросит каждый из вас. "Потому что мой неверный спутник изменил мне; зло было побеждено; я, с своей стороны, верил в это и продолжал бы верить и впредь!" И счастливый медовый месяц превращается в длинные терпкие годы, пожалуй даже в едкий уксус Ганнибала[61].
Не придется ли и нам сказать, что французский народ привел королевскую власть или, вернее, принудил королевскую власть привести его с слащавой нежностью к брачному Алтарю Отечества, а затем, чтобы отпраздновать свадьбу с должным блеском и великолепием, необдуманно сжег брачное ложе?
В Меце, на северо-восточной границе, уже несколько месяцев смутно маячит перед нами фигура некоего храбреца Буйе, которому суждено быть последней надеждой королевской власти в ее бедствиях и планах бегства. Пока это еще только имя и тень храброго Буйе.
Займемся им повнимательнее, пока он не обретет в наших глазах плоть и кровь. Человек этот сам по себе достоин внимания: его положение и дела в эти дни прольют свет на многое.