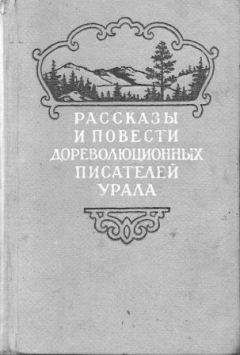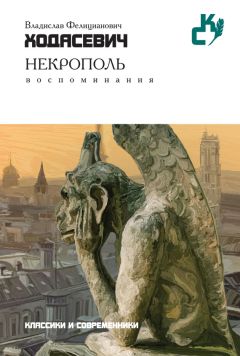Все, что лежало за пределами этой нашей жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муни, как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, — и все таки ее нет.
Все, за что брался Муни, в конце концов, не удавалось и причиняло боль, — потому, вероятно что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким то «другим концом» ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь, — он отвечал, морщась: «Ну, к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно «лить воду на мельницу действительности». Но всем, живущим без этого страха и отвращения, он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал:
— Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф:
Другие дым, я тень от дыма,
Я всем завидую, кто дым.
Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»
5. Семипудовая купчиха.
Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.
— Видишь ли, — говорил он, — меня в сущности нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.
И кончал по обыкновению цитатой:
— Моя мечта, это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.
В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает «довоплотиться» в спокойного и благополучного Перееславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Перееславцев убивает его.
После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот — больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни «по причинам полицейского, паспортного порядка».
Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Ю. И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел «Русской Мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора.
Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши «смыслы» становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съели один калач. В довершение всего, Муни бунтовал против Беклемишева («лез из кожи», как мы назвали), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это — довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью — Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой то Державинской пьесы). Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение Беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый Домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся «в себя», хоть не сразу. К несчастию, «беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейския события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако, мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.
6. Обуреваемый негр.
Муни написал две маленькие «трагедии» довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем». И еще: «Это-го ни-че-го не бу-дет».
В последнем действии на сцене, изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходить театральный механик и заявляет:
— Случилось несчастие. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре вce декораций устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.
В этой «трагедии» Муни предсказал собственную судьбу. Когда «события», которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их «слишком реальными» декорациями. Последнею и тягчайшей «неприятностью» реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:
— Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.
Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами — в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма «оттуда» были полны отчаяния. «Реальность» насела на него самою страшной формой. Все попытки, высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: «Ведь он в тылу. Чего же еще?» — и по-своему было право.
Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25-го марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск, на рассвете 28 марта, Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная».
Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попалось на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:
— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.
Муни приехал.
В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты в пустой квартире у Михаила».
Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: «наше» не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый высок. Через сорок минут он умер.