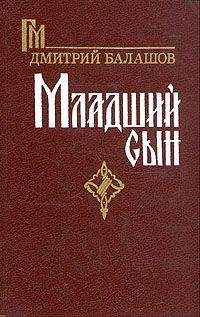– Митя, а… – Данилка застеснялся, стоя перед братом и любуясь им, потом все же спросил: – А тебя теперича позовут в Новгород князем?
Дмитрий усмехнулся, отвел глаза от его сияющего лица.
– Еще не созвали!
– А созовут, дядя Ярослав пустит тебя тогда?
Дмитрий серьезно взглянул на восьмилетнего братца: наслушался взрослых, что ли? Или подговорил кто? Этого вопроса он и самому себе старался не задавать.
– Мал еще! – хмурясь, отмолвил Дмитрий.
– Нет, ты скажи! – с детским упрямством, все так же восхищенно глядя на брата, повторил Данилка.
– Не знаю, Данил, – ответил Дмитрий и, не заметив сам как с языка сорвалось, примолвил: – Может и не пустить.
– А что тогда? – не отставал Данилка.
– Много будешь знать, остареешь скоро! – решительно прервал разговор Дмитрий. – На вот! – подал он сына младшему брату, стряхивая с колен «божью росу». Вбежавшая мамка (проведала, что князь в светлице, сломя голову мчалась, скажут: дите бросила!) засуетилась, подала князю плат, обтереться. Схватила ребенка, стала тискать без нужды. Ванятка заплакал.
– Сорочку смени! – сказал Дмитрий строго и вышел вон.
Данилка остался помогать мамке. У него в руках Ванятка тотчас переставал реветь. Сам Дмитрий не знал, что ему делать с сыном. Потому и заглядывал редко. Видел только, что слабый, больной, а нужен был воин, князь! Нужны были сыновья, много сыновей, чтобы не страшиться случайной беды, чтобы продолжили, когда придет час, дело отца и деда, дело собирания земли русской вокруг… Быть может, даже вокруг Переяславля!
Мысли – через жену и мать – перескочили к юрьевскому князю. Почему мать не могла вызнать, упредить заранее, гонца послать, наконец! Сидят, золотом вышивают… Не на добро обаживали юрьевского князя ростовчане, ой, не на добро! Надо скакать к наследнику. Немедленно. Троюродный брат! Почтение оказать. Дороги развезло – все равно. Заодно узнаю, как и что. Юрьев нельзя уступать ростовчанам. Нельзя дать рассыпаться русской земле! Хорошо было Великому Всеволоду! И отцу хорошо… А у него ни власти, ни сил, ни денег!
Гаврила Олексич, великий боярин князя Дмитрия, отвезя пойманного княжича в терема, воротился к торгу. Старый боярин твердо сидел в седле, зорко, с высоты, разглядывая запруженную народом площадь. Сын, Окинфий, и неколико человек дружины ехали следом. С утра он уже осмотрел ряды, где торговали сукном, холстом, рыбой, резной и глиняной посудой, кожами и многоразличным кожаным товаром. Мытник, отирая обильный пот, следовал за ним. Боярин сам проверял клейма, считал и писал что-то на вощаную табличку, которую, новгородским обычаем, всегда имел при себе. Доходы все падали и падали, и князь был недоволен. Будут тут доходы, когда по Волге пути нет! Персидского товару совсем не стало в торгу…
Перед ними теперь была конская ярмарка. Приподымаясь в стременах, Гаврило Олексич вдруг ожег коня, конь прянул, веером взбрызнув снег.
– Держи! – крикнул боярин. Конные холопы кинулись впереймы и скоро привели беглеца с рыжим, золотистой масти, жеребцом, что злился и пробовал укусить.
– Так и есть. Без пятна! – ответил мытник, осмотрев коня. – Виноват, Гаврило Олексич!
– Ищо поищи! – строго молвил боярин. – Раззява! Неклейменых коней будешь в куплю пущать, князя вконец разоришь!
– Как узнал, батя? – спросил Окинфий, подъезжая к отцу.
– Глаз надо иметь. Учись!
– Отколе сам? – спросил он продавца. Тот низил голову, зло озирался, мямлил. Гаврило Олексич вдруг, подняв плеть и страшно вытаращив глаза, с размаху хлестнул задержанного, так, что тот весь разом выгнулся и кровь брызнула у него поперек лица.
– С Рязани, с Рязани! – быстро забормотал он, пуча испуганные глаза на боярина.
Гаврило Олексич, уже вновь спокойный – будто и не он бил вора, – глядел на него с седла.
– Краденый конь! – отмолвил он и кивнул мытнику: – Клейма зарощены! Не туда смотришь. Вона, гляди! – ткнул концом плети, подъехав вплоть к золотистому коню. – Пото и продает украдом.
Продавец коня заторопился, с сильным рязанским яканьем стал объяснять боярину, что конь не краден, а взят в бою, и тому есть послух у него здесь же, в Переяславле, тоже рязанец…
– Ладно. Мне не первый снег на голову пал! – оборвал его боярин. – А за пятно почто не платил?
– Побоялси… – потупив голову, признался продавец коня.
– Сведи! – бросил Гаврило мытнику, к которому ужо подоспели двое стражей. – Коли не брешет, не продаст его послух тот, пущай платит за пятно да пеню, а коня – продает!
Огорошив рязанца неожиданной милостью, боярин отъехал.
– Они все там, на Рязани, воры да буяны. Думают татар перешибить… Татар не перешибешь! Прилаживаться нужно. Ну и зорят ихнюю волость кажен год. Татары их грабят, а они – сами себя! – сказал Гаврило Олексич негромко, оборотясь к сыну. Про татар громко не говорили вообще. – Я бы и отобрал коня, да начни тут… Торг закрывать придется! – прибавил он, помолчав. – А там с бою ли взят… Кто его с бою брал? Видать, что краденый! Добро, хоть не в нашем княжестви!
– Не оголодал? – спросил он сына, помолчав.
– Не!
– Съездить надоть за Клещин-городок. Тамо наши ратные на селе… Вдовы есь. Уведать надобно. Князь наказал. Может – помочь нужна. Коли не оголодал, терпи, тамо и поснидаем с тобой.
У златокузнечных лавок боярин придержал коня. Решил побаловать сына, а заодно и поучить.
– На-ко вот! – Он запустил руку в кожаный кошель. – Высмотри сам, чего тебе любо будет!
Окинфий радостно спрыгнул с коня. Миновал две-три лавки. Наконец задержался у одной. Серебряные наборные пояса, чары, нательные кресты, изузоренная серебром сбруя – тут, кажись, стоило поглядеть. Сиделец переводил острый взгляд с Окинфия на Гаврилу Олексича, что, сидя на коне, в отдалении, толковал о чем-то с остолпившими его гостями-суконниками.
Окинф перебрал товар, и радостное возбуждение от вида разложенных сокровищ померкло. Колты и серьги были грубы, зернь никуда не годилась, а подчас вместо зерни было простое литье по старым оттискам. Сканной работы не было, почитай, совсем. Он уже лениво перебирал серебряные крестики, изредка задерживая взгляд на черненом створчатом энколпионе или цепочке граненого серебра, но и то не годилось. Купишь, а опосле батюшка засмеет!
– Доброй работы нету ли?
Сиделец подумал, поглядел по сторонам, потом нагнулся, повозился, посопев, под прилавком, вытащил откуда-то сверточек и, оглянувшись опасливо, начал развертывать: первую тряпицу, вторую, третью. Наконец что-то проблеснуло.
– Ты мне словно крадено даешь! – пошутил Окинфий.
– Не крадено, а не всем кажу! – возразил купец.
Еще раз зорко оглядев боярина, сиделец выложил перед ним небольшой, темно-красного камня крестик, оправленный в золото. Окинфий недоверчиво подержал крестик на ладони, перевернул. Вгляделся. Крупного чекана оправа с толстою перевитью (сперва показалась даже грубой) обличала, однако, руку опытного и зрелого мастера. Тончайший узор по краю, сотканный словно из паутины, чего Окинф и не заметил вначале, дал ему понять, что мастер был далеко не прост.
– Тех еще мастеров! – ответил сиделец на немой вопрос Окинфия.
– До разоренья до етово делано, до етих! – он кивнул головой куда-то вбок, что на всем понятном языке намеков означало: терем ордынского баскака на княжом дворе.
– Киевска альбо рязанска.
– Теперича в Рязани энтого не найти! – молвил Окинфий.
– Куда! – сиделец даже рукой махнул. – Ты бывал ли в Рязани ноне?! – И опять безнадежно махнул рукой.
– Во Владимире и то извелись мастеры! – прибавил он погодя, пожевав губами. – И в Ростове, и в Суздале… Всюду извелись. Есь ли еще в Новгороде Великом?! Я старой человек, а ты молод еще, боярин, дак не поверишь, иногды стыдно торговать, пра-слово! Тридцать годов всего и прошло-то, которы и старики живы еще, не уведёны в полон, а не работают больше-то! Серебра, бают, того нет, ни золота чистого, ни камней, да и боятся! Чуть что – к баскаку: где взял? Товар отымут и самого уведут…
– Ну, сколь просишь? – прервал его Окинфий.
Старик закряхтел, забрал крестик, подержал его задумчиво, сжал ладонь и, жестко глядя в глаза Окинфию, назвал цену. Начали торговаться…
Уже засовывая крестик за пазуху, Окинфий все думал: не много ли стянул с него купец? Но отец, лишь глянув, одобрил куплю, прибавив:
– Старая работа!
– Старая, – подтвердил Окинфий.
– Видать. Тута, почитай, мастеры были лучше, чем в Нове Городи! Поуводили всех… Кого азиятцам попродали, кого в Сибирь, в степи, к кагану, да в ентот, в Китай…
Последние домишки Переяславля остались позади. Холопы отстали. Отец с сыном ехали горой, и озеро, большое, готовое тронуться, широко простерлось перед ними.
– Глянь, батя! Лед уже засинел! Дивно!