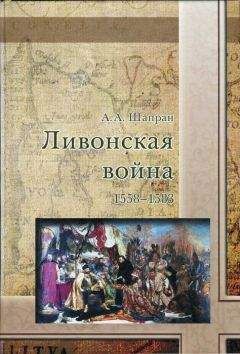Уже цитированный нами Виппер, автор интересной монографии об Иване IV, называет два источника трудностей Батория: разноплеменное, по большей части состоявшее из иностранцев, войско и внутригосударственная оппозиция, начинающаяся с сейма и заканчивающаяся в отдаленных шляхетских имениях. «В войске Батория, — пишет историк, — встречаются чуть ли не все нации Европы: помимо поляков, литовцев, русских и венгерцев, которых он набрал в своих старых и новых владениях, под его знамена стекаются немцы, бельгийцы, шотландцы, французы, итальянцы. Очень трудно было держать дисциплину среди этих искателей счастья и добычи, выходцев всех стран Европы…
Не менее трудно было политическое положение Батория. Шляхта не хотела ни служить в войске, ни платить налоги; в автономных сеймиках менее всего находилось охотников вникать в интересы государства. Как тут было осуществить план нового короля, состоявший в снаряжении хорошей ударной армии, которую следовало быстрым натиском повести в центральные области Московского государства, чтобы отрезать Ливонию и вырвать ее у Грозного».
И действительно, история помнит постоянные баталии нового польского короля с сеймом и просто с магнатами, вельможами и, наконец, со средней и мелкой руки шляхтой по поводу ведения войны. Эти баталии, хоть и без кровопролитий, но по накалу страстей не уступали тем, что гремели на полях сражений. Нам трудно, даже невозможно представить Грозного или какого другого русского государя в подобных условиях. И вот эта разница властных положений, казалось, должна была скомпенсировать все недостатки военного потенциала Москвы, в том числе и ее отставания в области военного искусства. Однако этого не получилось. Польский король, чередуя жаркие схватки на сеймах с военными баталиями на Ливонском фронте, по крайней мере из последних вышел победителем. Таланты и энергия седмиградского князя взяли верх над абсолютистским всевластием московской деспотии.
Продолжая свою мысль, Виппер пишет:
«Баторий сумел удержаться в этих шатких условиях, мало того, искусно использовать таланты шляхты, увлечь большую ее часть к войне, начертавши перспективы польского империализма. После его смерти это дело попадает в слабые руки бесталанного Сигизмунда III, но все, что смог осуществить жалкий преемник — завоевание Смоленска, Северской области и временное занятие Москвы, — исполнено силами и личностями, которые набрал и вдохновил Баторий. У него был верный глаз на способных людей и обаяние, привлекавшее их. Из военной школы Батория вышел его неизменный спутник, сначала канцлер, потом гетман Замойский, «завоеватель городов», дипломат и политический оратор. Учеником Батория был и молодой Жолкевский, восходящая звезда короткого, рано оборвавшегося империалистического периода Польши, уже не нашедший настоящего применения своих разнообразных дарований».
Невольно напрашивается вопрос: а каковыми могли бы быть результаты внешнеполитической деятельности Стефана Батория, каким мерилом можно было бы измерить его успехи в случае, если бы он располагал внутриполитическими возможностями русского царя?
Результаты Ливонской войны, ставшей основным историческим событием эпохи, включившим в себя целый комплекс показателей успехов во внешней и внутренней политике первого русского царя, могут служить достаточной оценкой его деятельности. Позор Киверовой Горки высветил всю никчемность этой царственной личности как государственного деятеля. Статьи Ям Запольского и Плюсского договоров, ставших следствиями безнадежно проваленной войны, можно поставить в один ряд с такими же бесславными событиями нашей истории, как подписание унизительного для России Тильзитского мирного договора в 1807 году, Парижского мирного договора в 1856-м и Портсмутского мирного договора в 1905-м. Договор на Киверовой Горке открывает эту позорную серию. В каждом из названных случаев очередной дипломатический акт отражал суть пережитой эпохи, становился мерилом ее успехов. Что касается первого такого случая, связанного с Ливонской войной, тот же Виппер так характеризует не столько сам его финальный результат, сколько личностное участие в нем главного действующего лица эпохи:
«Судьба Ивана IV — настоящая трагедия завоевателя, который сорвался на слишком крупной игре, потому что бросил на весы счастья все свое достояние и вместе с потерей новой колониальной добычи глубоко расстроил основы старой империи…. Его вина или несчастье состояло в том, что, поставивши громадную цель превращения полуазиатской Москвы в европейскую державу, он не мог вовремя остановиться перед возрастающим врагом, что он растратил и бросил в бездну истребления одну из величайших империй мировой истории. Опять-таки оправданием или объяснением этой невольной трагедии может служить его личная судьба: так же как он быстро исчерпал средства державы, он вымотал свой могучий организм, истратил свои таланты, свою нервную энергию».
Тут следует заострить внимание на еще одной особенности Грозного и всей его эпохи.
Необыкновенная способность Ивана IV обставлять любое из своих начинаний большой помпой и сопровождать его излишней шумихой, когда громкое и броское легко принять за великое, настолько подействовало на нервы и впечатления его современников и передалось потомкам, что царя даже иной раз стали называть Великим, подобно Петру I. И не только на бытовом уровне. Такому сопоставлению двух известных деятелей нашей истории и даже отчасти уравниванию их перед ее судом, очевидно, во многом посодействовало то, что оба чем-то были схожи в своих устремлениях. В частности, оба ставили целью утвердиться в Прибалтике. Но, пожалуй, на этом сходство между ними и заканчивается. Например, основоположник марксизма, на которого, как и на его идейных последователей, сейчас не очень принято ссылаться, сугубо положительно оценивая личность Ивана Грозного, говорит:
«Он был настойчив в своих попытках против Ливонии; их сознательной целью было дать России выход к Балтийскому морю и открыть пути сообщения с Европой. Вот причина, почему Петр I так им восхищался».
Поскольку автору этой цитаты напомнить уже ничего нельзя, то напомним читателю, что до Ливонской войны у России был выход к Балтийскому морю, и выход достаточный, для того чтобы начинать открывать те самые пути сообщения с Европой, о которых говорит Маркс. Вместо этого русский царь ввязался в войну, в результате которой потерял этот выход, не оставив за собой ни пяди Балтийского побережья. Вообще говоря, не понятно, где Маркс разглядел восхищение Петра царем Грозным. Петр признавал за своим далеким предшественником некоторые позитивные стороны, но восхищения перед ним, как известно, не испытывал. А что касается деятельности Петра, и в особенности ее результатов, то тут не просматривается ничего общего с Иваном Грозным.
В свое время Н.И. Костомарову доводилось в ученой среде, на довольно высоком ее уровне, отстаивать существование принципиального различия между Петром и Грозным, различия, не допускающего признавать последнего Великим. Ученого возмущала и больно задевала попытка со стороны некоторых его коллег уравнять между собой обоих. Правоту своего взгляда на этот вопрос известный историк доказывал прописной истиной, что настоящее, подлинное величие определяется не только замыслами, какими бы грандиозными они ни были, но и результатами. Высказываемая при этом историком мысль предельно ясна. Он понимает величие только в достижении высокой цёли, причем конечной целью, коль скоро речь идет о государственном деятеле, он считает принесенную своему отечеству пользу. Мнение Костомарова на этот счет звучит так:
«Если перед нами стоят два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми почти средствами для достижения их, за изменением только некоторых несущественных обстоятельств, то мы обыкновенно отдаем преимущество, венчаем лаврами того, который одержал полную победу; мы видим человека, достигшего последних результатов, видим торжество блистательное — унижение соседнего государства, стоявшего прежде на первом плане на всем Севере, — мы видим полное достижение цели и видим его торжественно сходящим со своего поприща. Мы говорим: вот великий человек! Обращаясь к другому, мы видим, что цели были те же, но не было того торжества, и говорим: этот не был великим человеком!»
Особенно для автора последнего положения характерно то, что ученый не снимает при этом ответственности с исторического лица за нравственную сторону вопроса.
«Прежде всего, — рассуждает далее Костомаров, — нужно уяснить себе, что следует называть великим, что действительно достойно этого названия. Нам кажется, следует строго отличать великое от крупного. Победы, кровопролития, разорения, унижение соседних государств для возвышения своего — явления крупные, громкие, но сами по себе не великие. Сочувственное название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству. Только тот великий человек, кто действовал с этими целями и достигал их удачным, сознательным выбором надлежащих средств. Относительная степень исторического величия может быть определена как суммою добра, принесенного человечеству, так и уменьем находить для своих целей и пути, средства, преодолевать препятствия и, наконец, пользоваться своими успехами. Если историк называет человека великим только тогда, когда видит за ним успех, и настолько признает за ним величие, насколько деятельность его была плодотворна, — историк вполне прав; это, без сомнения, не лишает его права на сочувствие к тем, которые имели хорошие цели, но не могли или не умели найти средств и путей к их выполнению; нужно только при этом быть уверенным, что действительно такие цели существовали».