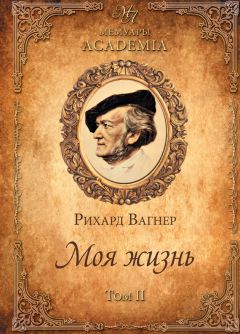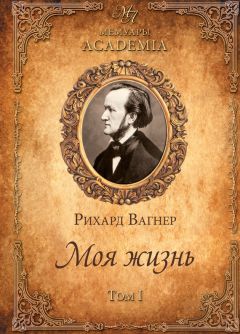Такова была та общая, действительно оригинальная и интересная идея, которую Вагнер усмотрел в легенде о Летучем Голландце. Он впервые ясно разрешал в своей драме проблему, с которой с этих пор мы будем встречаться в каждом его произведении: проблему спасения. Все герои его, от Голландца и Тангейзера до Вотана, Тристана, Амфортаса и Кундри включительно, ищут пути к истинному счастью, смысла в жизни, и находят их в конце своих испытаний, чаще всего благодаря заступничеству "Спасителя", который указывает им добрый путь и "искупляет" их актом любви или жалости. Таким образом, проклятый Голландец искупляется любовью Сенты, Тангейзер самоотверженностью Елизаветы, Вотан и боги Валгаллы - вмешательством Брунгильды, Амфортас и Кундри - спасительной силой простеца с чистым сердцем, Парсифаля. Однако заметим, что проблема искупления в "Моряке-скитальце" выступает еще довольно-таки принужденно, и это потому что Вагнер оставляет нас в неведении, какова трагическая вина его героя и почему он нуждается в искуплении. Нам сказано только, что Голландец "проявил неуважение" к дьяволу. Следовательно, его грех по характеру своему является еще более внешним, чем грех Макса в "Фрейшютце", который, по крайней мере, обратился к дьяволу за помощью, что, если хорошо разобрать, может быть более достойно порицания, чем оказать ему неуважение, хотя с рассудочной точки ни то, ни другое преступление не имеет достаточно удовлетворительного смысла. Голландец кажется пассивной жертвой какой-то злотворной, вне его лежащей силы; не видно, чтобы он был ответствен за свою судьбу, незаметно в нем никакого нравственного переворота, и во всяком случае внутренняя эволюция - если только автор хотел показать ее - отмечена очень неясно, как мы видели это при разборе характеров Сенты и Голландца. В сущности, внутреннее действие в "Моряке-скитальце" еще не имеет того абсолютно первенствующего значения, какое оно имеет в позднейших драмах. Вагнер еще не стремится - как это он делает потом, напр., в "Тристане" - к сосредоточению всего внимания зрителей на внутренней драме, разыгрывающейся в глубине сердец действующих лиц пьесы. "Моряк-скиталец" является в некотором смысле, как "Риенци", "пьесой эффекта". Рядом с психологической, в собственном смысле, драмой здесь встречаются живописные и романтические элементы, очевидно, умышленно предназначенные Вагнером сильно поражать воображение зрителя, а может быть, и скрывать от него недостатки внутреннего действия: сначала перед нами феерия - истории каких-то выходцев с того света, главным действующим лицом которой, почти столь же важным, как и сам Голландец, является проклятый корабль со своим волшебством и со своим фантастическим экипажем; потом следует дивная поэма Океана, картинное и мощное описание бури, которая свистит и воет среди мрачной ночи, вздымая по пути яростные волны. С такой точки зрения "Моряк-скиталец" походит еще, до известной степени, на романтическую оперу, однако с той существенной разницей, что в романтической опере фантастические и живописные мотивы должны чаще всего интересовать самой своей причудливостью и не имеют никакого серьезного значения, тогда как в "Летучем Голландце" они не могут быть рассматриваемы как бесполезные вставки, но находятся в тесной связи с драмой - в собственном смысле слова. Вот почему нет ничего несправедливее, как не признавать за новым произведением Вагнера высокого поэтического значения. От "Риенци" до "Моряка-скитальца" большой шаг. Вагнер впервые ввел на сцену легенду, сделав из нее символ вечно человеческих чувств, испытанных и выстраданных им самим. Таким образом, старинному народному мифу он дал новую, удивительно сильную и захватывающую жизнь. И несмотря на указанные нами шероховатости в отделке, его проклятый Голландец тем не менее является первой из тех великих, вылепленных мощной рукой фигур, которые с этих пор мы будем встречать в каждом произведении Вагнера, и которые запечатлеваются у всех в воображении неизгладимыми чертами. "Ни один поэт после Байрона, - говорит Лист в этюде, посвященном "Моряку-скитальцу", - не мог воздвигнуть на сцене столь бледного призрака среди более мрачной ночи".
III
"Тангейзер"
Проект драмы о Манфреде. - Тангейзер - историческая личность.
- Народная песнь о Тангейзере. - Поэтический турнир в Вартбурге.
- "Тангейзер" и "Моряк-скиталец". - Заимствования Вагнера у его предшественников. - Характеристика Тангейзера. - Символическое толкование "Тангейзера". - Гипотеза "эволюционная" и гипотеза "унитарная". - Синтез двух толкований.
"Моряк-скиталец" имел если не полный успех, то по крайней мере полууспех. Встреченный на первом вечере представления, несмотря на неудовлетворительное исполнение, благосклонно, он подвергся жестоким нападкам со стороны местной критики, нашедшей инструментовку слишком тяжелой, музыку слишком однообразно мрачной, слишком бедной легко запоминаемыми мелодиями, скорее ученой, чем трогательной. Что касается публики, которая надеялась, что Вагнер поднесет ей нечто вроде "Риенци", то она почувствовала себя сбитой с толку при виде произведения столь вполне оригинального и столь диаметрально противоположного тому, чего она ждала от автора. Таким образом, она сама дала возможность критикам убедить себя, что произведение неудачно, и после четвертого представления "Моряк-скиталец" был снят с репертуара. Между тем "Риенци" продолжал пользоваться неослабевающим успехом. Урок был ясен. Если Вагнер хотел снова обрести славу, какую принес ему "Риенци", то он должен был во что бы то ни стало пожертвовать своими новыми идеями о музыкальной драме и вернуться к историческому жанру, к обстановочной пьесе. Каков же был его выбор?
Он вез с собой из Парижа две драматические идеи и весьма неодинакового значения, обдуманные им - и та и другая - за те несколько месяцев, которые протекли еще до его отъезда в Германию, по окончании "Моряка-скитальца": проект исторической драмы о Манфреде и проект "романтической" драмы на сюжет легенды о Тангейзере.
Когда в конце 1841 года Вагнер окончил "Моряка-скитальца", то первым возбудил в нем творческую фантазию проект исторический. В минуты передышки от изготовления попурри и аранжементов, которыми он думал заработать себе денег на возвращение в Дрезден, он погружался в чтение германской истории, для того чтобы составить себе ясное понятие о том, какова была та немецкая отчизна, которую он страстно желал снова увидеть после годов изгнания, проведенных им в Париже, а также и для того чтобы найти сюжет для оперы. В самом деле, в принципе он ничего не имел против исторического жанра и написал свою легендарную драму "Моряка-скитальца" не по эстетической теории, а потому что случай столкнул его с легендарным сюжетом, овладевшим его поэтическим воображением. Итак, он не видел никакого основания а рriоri полагать, чтобы чтение истории не могло дать ему столь же вполне годного сюжета. В подробном разборе "Кипрской царицы" Галеви, написанном в 1841 году, Вагнер даже рекомендует либреттистам усердно проглядывать страницы великой книги истории, чтобы извлечь из нее какое-нибудь сильно драматическое событие, разбить рассказ на пять кусков, сделать их актами, придать, наконец, этим актам страсти настолько, насколько это позволит творческое дарование, - и он ручается, что таким способом они легко получат весьма приличные книжки. Изучая германскую историю, Вагнер сам только попробовал применить на практике тот совет, который он давал своим собратьям. Только он по мере того, как всматривался в историю древних императоров, убеждался, что трудно было ему найти сюжет по своему вкусу. Почти все казались ему одинаково негодными, чтобы предстать в драматической форме и дать материал музыкальным развитиям; он сразу отбрасывал их как драматург и как музыкант. Наконец, Вагнер остановился на историческом эпизоде Гогенштауфенов, оказавшемся, по его мнению, способным к восприятию более свободного и широкого развития, именно - на эпизоде завоевания королевства Сицилия Манфредом, сыном императора Фридриха II. К драме, в собственном смысле исторической, оканчивавшейся коронованием Манфреда, Вагнер предполагал привить извлеченную из его собственного воображения драму с подкладкою страсти. Вагнер вспомнил виденную им когда-то гравюру, изображавшую Фридриха II среди полуарабского двора, где фигурировали поющие и танцующие арабские жены. Эта последняя черта сильно врезалась в его воображение и дала ему идею воплотить гений Фридриха II, особенно пленившего его своей величественной фигурой, в образе одной юной сарацинской девушки, которая была бы плодом любви императора к деве Востока во время его пребывания в Палестине. Эта юная, полная героизма и энтузиазма девушка является пророчицей при дворе Манфреда; облекшись в глубочайшую тайну для того, чтобы сильнее воздействовать на душу юного принца, она возбуждает его мужество, заставляет его действовать, привлекает на его сторону арабов из Люцеры, ведет его от победы к победе до самого трона. Когда миссия ее является выполненной, она умирает, бросаясь добровольно под смертельный удар, предназначаемый королю, и с последним вздохом открывает брату тайну своего происхождения. Этот эскиз, не имевший недостатка ни в страсти, ни в блеске, не замедлил, однако, потерять свой престиж в глазах Вагнера; последний очень скоро убедился, что этот сюжет имел капитальный недостаток с его точки зрения: действующие лица, выводимые на сцене, не были достаточно типическими. Его проектируемая драма показалась ему "сверкающей переливами, пышной историко-поэтической тканью, скрывающей от него, как бы под великолепной одеждой, стройную человеческую форму, которая только одна могла очаровывать его зрение". И он мало-помалу сознает, что исторические сюжеты не годятся для музыкальной драмы, потому что история не раскрывает нам внутренней природы вещей, а дает лишь смутную и пеструю массу фактов, которую нет возможности привести к единству и представить в пластической форме. Эти доводы, которые он воспринимал интуитивно, не отдавая себе в них ясного отчета, заставили его на первый раз отложить в сторону свой проект исторической драмы и заняться планом "Тангейзера", мысль о котором зародилась тогда в его голове.