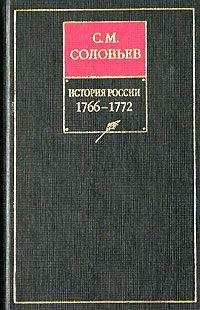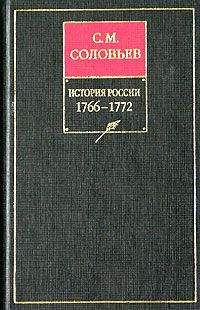В Москве платили ему тою же монетою и назначили ему в товарищи Ивана Желябужского, человека, не любимого им. Нащокин встретил Желябужского вопросом: «Вперед ты, будучи у посольского дела, помогать мне станешь ли? Объяви заранее, потому что после отсылать тебя от дела будет нехорошо». «Тебе допрашивать меня не указано, – отвечал Желябужский, – польские послы моего имени в грамотах своих не пишут, так я на съезде стану им то выговаривать, а дело посольское стану делать, о чем указ будет прислан». Нащокин послал грамоту в Москву: «По такому, великий государь, несогласию делу божию и твоему разрушение! И на Москве из Посольского приказа злых дел наслушано, и то великое разрушение, а теперь на послов нападут со враждою и с небыличными выговорами».
Желябужский в свое оправдание писал: «Я приехал в Мигновичи 10 июля, и до 20-го числа боярин Афанасий Лаврентьевич со мною о государских делах ничего не говаривал; получит через почту из Польши письма – меня не призывает и знать мне об них не дает, а если и призовет, то ни о каких делах не говорит, только расспрашивает, по какому моему доводу государь присылал к нему стрелецкого голову Лутохина? Для чего я к нему чрез его письмо ехал? Говорит, будто он к великому государю писал, чтобы меня не высылать; говорит, что я ему у государева дела ненадобен, делаю я будто дела проклятые; что мне у посольского дела быть нельзя, потому что с польскими комиссарами стану говорить спорно, а ему, боярину, говорить надобно все с поклонами и с челобитьем, чтобы польских комиссаров ничем не раздосадовать, ходить ему надобно за комиссарами с покорством, потому что за нами есть их добро (Киев), и вперед грозит многими расспросами. А я против его расспросов никакого своего довода не таил, и никого ни в чем не ведаю, и не доваживал, и проклятых дел никаких не держусь, и посольских дел на съездах без противных слов, с поклонами и с хожденьем за польскими комиссарами с покорством как делать – на столько меня не станет. И теперь мне за боярским письмом на меня к великому государю у дела быть нельзя, чтобы от недружбы боярина Афанасия Лаврентьевича напрасно не пострадать и от великого государя в опале не быть, чтобы мне, бедному, в Мигновичах вконец не погибнуть».
Желябужский был отозван в Москву, прислали и шведскую грамоту. Но Афанасий Лаврентьевич не успокоился, послал к государю новую жалобу на посольских дьяков, обвинял их в явном желании не допустить до вечного мира; жаловался, что когда он был отправлен в Курляндию, то дьяки, удержав у себя посольский наказ, переделывали и прислали к нему с подьячим в дорогу; после его отъезда докладывали государю, писать ли его, Нащокина, царственной большой печати и государственных великих посольских дел оберегателем? «Указу и статей для мирного постановления мне до сих пор не прислано; в Посольском приказе разве то мне в вину поставлено, что неотступно великому государю служу? Если мне Посольский приказ не верит, то этим государственные дела обруганы. В чужие государства меня сберегателем пишут, а у себя в приказе не верят?»
С 25 сентября начались у Нащокина съезды с польскими комиссарами: Яном Гнинским, воеводою хелминским, Николаем Тихановецким, воеводою Мстиславским, Павлом Бростовским, писарем литовским. Нащокин объявил, что для утверждения вечного мира надобно быть посредникам; комиссары говорили, чтобы мириться без посредников, а если дело не сладится, тогда искать способу через посредников. Потом начали говорить, как бы украинские народы успокоить и от турского подданства отвратить? Нащокин говорил, что это дело надобно решить прежде всего и для успокоения Украйны надобно быть посольским съездам под Киевом или призвать выборных из Украйны в Андрусово. «Нет, – возражали комиссары, – надобно прежде заключить вечный мир». «Вечный мир, – отвечал Нащокин, – может быть заключен только на условиях Андрусовского перемирия». «А зачем Киев не отдан в положенный срок?» – спрашивали комиссары. «Затем, – отвечали им, – что вы прислали для его занятия полковника Пиво с немногими людьми; но разве можно было сдать им такую крепость? Это было все равно что сдать ее бусурманам». «Отчего, – спрашивали опять комиссары, – отчего по союзному договору царские войска не соединялись с нашими между Днепром и Днестром?» «Потому, – был ответ, – что не допустили до этого соединения татары и Дорошенко, перешедши на путивльскую сторону, где Дорошенко захватил многие города и теперь держит; королевским войскам следовало помогать нашим на путивльской стороне». «Не могли тогда наши войска помогать, – отвечали комиссары, – потому что в прошедшую войну мы изнурились. Надобно это пустить на волю божию». «Надобно писать в Украйну для ее успокоения», – начал опять Нащокин. «Как писать?» – спросили послы. «Писать с обеих сторон к духовным и мирским людям, пусть они или пришлют выборных на нынешние съезды, или какого другого утверждения потребуют». 19 октября письма были отправлены. После этого комиссары опять начали толковать о Киеве. «Нельзя было вам отдать Киев, – отвечал Нащокин, – смута была тогда в Украйне». Комиссары стали говорить о вечном мире с возвращением всего приобретенного по Андрусовскому перемирию. «Об этом нечего говорить, – отвечал Нащокин, – Смоленск и строен с нашей стороны, и останется за нами вечно». В этих переговорах протянулось два месяца с лишком. На девятом съезде, 29 ноября, комиссары объявили, что им велено подтвердить договор о соединении войск, договор о вечном мире был отложен, но комиссары упорно стояли, чтобы назначен был срок сдачи Киева. Это упорство затянуло переговоры до 7 марта 1670 года, когда поляки перестали наконец толковать о Киеве. Постановили, чтобы первый Андрусовский договор сохранился во всех статьях, запятых и точках, равно и постановление о союзе против бусурман.
Подробности о дальнейшей судьбе Нащокина нам неизвестны. В январе 1671 года по случаю свадьбы царской боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин упоминается в числе бояр, бывших за великим государем, а в феврале начальником Посольского приказа уже является любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев; Нащокин сходит с служебного поприща и постригается под именем Антония в Крыпецком монастыре, в 12 верстах от Пскова. В Дворцовых разрядах сохранилось следующее известие: «Того ж году (1671) в Польшу великие послы: боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин да думный дворянин Ив. Ив. Чаадаев. И Афанасий Нащокин отставлен, а на его место указал государь быть окольничему Вас. Сем. Волынскому». Очень может быть, что вследствие этого назначения Нащокин подал такие докладные статьи, на которые не хотели согласиться, а он иначе не согласился ехать, и это несогласие повело к окончательному удалению Нащокина от дел.
В то время как Посольский приказ переменял своего начальника, сношения с Польшею получали все больше и больше важности по поводу дел турецких.
В августе 1670 года приехал в Москву королевский посланник Иероним Комар. Он требовал, чтобы царь велел двинуться войскам своим в Украйну против турок и татар, постоянно грозящих Польше, требовал, чтобы немедленно дана была помощь Белой Церкви, угрожаемой Дорошенком, который разорвал переговоры с польскими комиссарами в Остроге. Ему отвечали: «Если царские войска явятся на Украйну, то это только раздражит козаков, особенно Дорошенко, которого это не успокоит, напротив, в движении царских и королевских войск он увидит явное намерение изгубить украинские народы и станет призывать к себе на оборону турецкие войска. Царские войска стоят в Белгородском и Севском полках и оберегают Украйну. Обоим великим государям шатостных козаков лучше привесть в послушание милостию, а не жесточью».
В декабре 1671 года во дворце великого государя было большое торжество – прием великих и полномочных послов его королевского величества, Яна Гнинского и Павла Бростовского. Воевода хельминский витийствовал в длинной речи пред царем: «Кто здравым оком и нетемным разумом взвесит дела божия, у которого народы игрищем, вселенная и небеса яблоком, кто изочтет на востоке солнца мидийское, ассирийское и персидское единоначальство, на полдень и запад греческое и римское величие, премудрость, силу и обилие Египта, рай обетованной земли, ее богатства и утешения и потом увидит эти страны в пепле, в крови, без имени, под игом неволи и, что всего хуже, без познания божия, – тот должен признать, что бог взамену всех этих народов возбудил, поставил и укрепил народы, находящиеся под владением королевского и вашего царского величества, дал королевскому величеству от востока и от полудня застундение, утверждающееся на крепком союзе с цесарским величеством и с целым домом австрийским: велики владения их! До Африки и Сицилии расширяются, обнимают Америку, полную златом, и непобедимым скипетром защищают Европу. А ваше царское величество заступаете Европу с другой стороны, в пределах владений ваших родятся, растут, разливаются Дон, Двина и Волга. Ты побеждаешь диких наследников Батыя и Темир Аксака и защищаешь Европу, зеницу вселенные; ты стремишься к стране, орошаемой Доном, дабы и там незнаемой части вселенные наложить имя славянское; паче всего услаждаешь неудобства полунощные милосердием правления. Оба народа – польский и русский – бог превечный положил стеною христианства: какой же страшный отчет дать должен пред небом тот, кто дерзнет их ослаблять или делить несогласием или дружбою неискреннею».