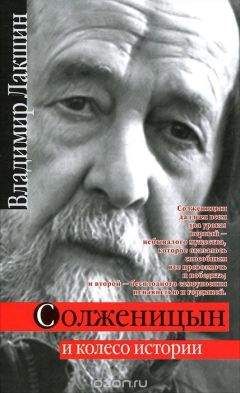Летом, в августе 1983 года, умер Анатолий Васильевич Никонов. Ушел человек, с которым была связана, можно сказать, весенняя пора моей литературной жизни - "молодогвардейская". С его смертью уходила в прошлое часть самого меня. После похорон на Кунцевском кладбище мы собрались на поминки в здании издательства молодежных журналов на Новодмитровской, где он работал. Я сидел рядом с его сыном, изредка мы переговаривались с ним, не упоминая имени его отца. Если бы я знал, что его ожидает в будущем. Его найдут зимой замерзшим на улице и таким окоченевшим, что нельзя было нормально уложить в гроб. Было в этом что-то роковое для Анатолия Никонова с его драматической, в сущности, судьбой в катастрофическое для России время.
На поминках, помнится, поэт Владимир Фирсов начал читать свое стихотворение, наступало то оживление с растущим празднословием, которое как-то не ложилось в мою уже свыкшуюся с безмолвием душу, и я тихо покинул эту тризну.
Шли годы, и случилось то самое, что предсказал саратовский писатель Василий Кондрашов, - через несколько лет, пусть не пять, а немного попозже - через шесть лет отношение к моей статье стало совсем другим. В. Кожинов в своей статье ""Позиция" и понимание" ("Литературная Россия", 28 июля (№30), 1989) писал: "В "Литературной России" (№ 24, 1989) появилась информация о том, что саратовские писатели отменили свое давнее "решение", которое "осуждало" публикацию статьи Михаила Лобанова "Освобождение" в № 10 журнала "Волга" за 1982 год. В сущности, "решение" это отменено самой жизнью, и очень многие литераторы ныне ясно понимают, что та статья Михаила Лобанова - одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие "застоя"... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости оттого, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромиссный голос - хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно..."
Ст. Лесневский писал в "Литературной газете" (27 января 1988 года): "У нас не прозвучало полного признания того, что мы совершили большую ошибку, учинив разгром памятной статьи М. Лобанова в "Волге". Между тем сейчас, перечитывая статью, мы находим в ней немало справедливого, точного. Не должна возникнуть такая ситуация, когда одно направление пытается доказать власти, что противоположное направление является врагом нашего строя. Эта ситуация находится вне морали и вне культуры".
Выступивший на VII съезде писателей РСФСР, в декабре 1990 года, В. Бондаренко говорил: "Но давайте не забывать, что это на российском секретариате громили не так давно наши уважаемые секретари Михаила Лобанова за его знаменитую статью. Мы хоть повинились перед ним? Нет... Я думаю, все называемые секретари, сидящие здесь, должны лично на съезде извиниться перед Михаилом Петровичем Лобановым" ("Литературная Россия", 21 декабря 1990 года).
Из всех названных секретарей извинился только один из них - руководитель СП РСФСР С. Михалков. В связи с этим в своем кратком слове на съезде я сказал: "Я не думал выступать на съезде, но, видимо, будет невежливо, если я не скажу несколько слов по поводу одного выступления. Я имею в виду выступление Сергея Владимировича Михалкова. Здесь, на съезде, он принес мне извинения за свое выступление на секретариате Союза писателей РСФСР в феврале 1983 года, когда после решения секретариата ЦК КПСС подверглась разносу моя статья "Освобождение" в журнале "Волга". Мне хотелось бы услышать от секретариата СП и извинения перед Николаем Егоровичем Палькиным, снятым тогда же с поста главного редактора "Волги" за публикацию моей статьи. Тем не менее извинения Сергей Владимировича - своеобразный аристократизм на фоне литературно-критического плебейства многих участников того судилища" ("Литературная Россия", 28 декабря 1990 года).
В своем слове я счел нужным сделать акцент на следующем: "Характерно, что большинство громивших "Волгу" за мою статью - русские, полтора десятка секретарей СП, лауреатов. Альберт Беляев слушал их и потирал руки от удовольствия: вот русские дураки, - бьют своего, лежачего. Это не в диковинку. Этим методом пользовались, пользуются политики... Сейчас левые радикалы испытывают явное затруднение, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и потому они стремятся использовать русских, и те идут на это" (там же). Но это уже та проблема, которая требует особого разговора.
В начале июня 2000 года по просьбе Михаила Николаевича Алексеева я поехал с ним в Саратов по случаю вручения лауреатам премии его имени. Местные писатели вспоминали ту давнюю историю с моей статьей, расхваливали меня, дарили книги. Во время плавания на катере по Волге мой визави по застолью поднял меня с места, подвел к борту и, вспоминая то писательское собрание по поводу моей статьи, начал вдруг выкрикивать в мутном вдохновении: "Мы слабаки! Трусы! Подлецы!" Чего мне оставалось делать, как не успокаивать его.
После поездок по городу, встреч нас принял губернатор области Д. Аяцков. Он вышел к нам навстречу, как только открылась дверь кабинета, торжественно обнял своего знаменитого земляка. Сели за большой стол, Алексеев - напротив губернатора, и началась беседа. Тут слушавший писателя с какой-то разогретой, понимающей улыбкой Аяцков воскликнул: "Этот подонок N!" Только позже, выйдя из губернаторского кабинета, спускаясь по лестнице, я сказал: "Не надо бы так резко об N." - заметив тут же, как внимательно посмотрел на меня шедший рядом молодой человек, видно, из администрации губернатора.
Пока шел разговор, у меня возникла мысль воспользоваться случаем, чтобы чем-то помочь местным писателям. И я обратился к Аяцкову: "Дмитрий Федорович, Вам известно, что в некоторых областях России писателям выделяются ежемесячные пособия. Нельзя ли то же самое сделать у вас? Это было бы знаком отеческого внимания к нуждающимся писателям!"
- Отеческое внимание есть, но не всегда есть возможность реализовать его, - отпарировал хозяин кабинета. - Вот мы помогаем артистам филармонии.
- Ну какое может быть сравнение исполнителей с писателями?
- Я - не против, - заключил Аяцков. - Пусть руководитель саратовских писателей сделает мне соответствующее представление.
Замечу, что сразу же после этого, при вручении премий, чтобы придать гласность обещанию губернатора, я в своем выступлении с трибуны перед публикой остановился на обещанных пособиях. И потом, в разговоре с секретарем местной писательской организации Иваном Шульпиным, присутствовавшим на нашей встрече с Аяцковым, просил убедительно в списке кандидатов поставить первым Кондрашова Василия Павловича. Он был единственным из саратовских писателей, кто вступился за меня, когда там, по команде из Москвы, трепали меня в феврале 1983 года за злополучную статью. Так хотелось мне отблагодарить Василия Павловича за поддержку, за благородное поведение - и был уверен, что сумел это сделать, когда решился вопрос о пособиях. И что же? Впоследствии узнаю, что ежемесячное пособие получили пять саратовских "классиков", Кондрашов же в список не попал. А ведь о нем я больше всего думал, когда пробивал вопрос об этих пособиях.
Я благодарен Михаилу Николаевичу за поездку на Саратовщину, особенно - в его родное село Монастырское. Когда мы, приехав туда, ходили по улицам и окраинам, я узнавал все описанное в его книгах - Вишневый омут, сад деда, другие места его детства. Здесь мне как-то виднее стал этот человек, ранее смущавший меня порою уклончивостью в поступках, крестьянским "себе на уме" при своих, конечно, качествах самородка, мудрости житейской. Здесь, в родных его местах, он понятнее мне стал как автор "Карюхи", "Драчунов" - выношенных им в глубине сердца, написанных рукой художника. "Я писал "Карюху" здесь, в Монастырском, в избе зимой, написал за два месяца", - сказал он мне и добавил, что хорошо бы нам с ним приехать сюда вдвоем. Он посетовал не в первый раз, что кому-то надо было поссорить нас, распустить слух, что будто он, Алексеев, топтал меня за статью, но это - ложь. И не в первый уже раз вспомнил, как из-за моей статьи отменили уже решенное было дело - присуждение ему за "Драчунов" Ленинской премии. А ведь в самом деле, подумал я, человек пострадал из-за меня, а вроде чувствует себя чем-то виноватым передо мной - что за странная русская черта!
С особым чувством отправился я на кладбище, которое в моем представлении было связано с теми картинами в "Драчунах", когда сюда свозили и хоронили в ямах умерших от голода. Но никаких признаков тех могил здесь не оказалось. Только редкие островки могил поздних с большими деревянными крестами жались к краям огромного кладбищенского пространства с переливающимися от пронзающего холодного ветра ковыльными травами. Такого кладбища я не видел, весной с разливом, как мне рассказали, вода заливает всю околокладбищенскую низменность, и тогда в открывающейся красоте чего может быть больше - призрачного или - врачующего для людской памяти?