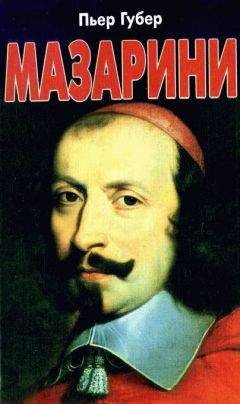Королевство, которым предстояло управлять Мазарини, было процветающим, хотя уже появились признаки слабости; в этом королевстве часто случались народные волнения и не было порядка. Кардинал все понимает и ничего не боится: пока «крупный зверь» (Париж — сказал он Ришелье) молчит, это всего лишь мелкие неприятности. Мазарини волнует совсем другое, самые незаметные аспекты экономики королевства: деньги и финансы. Впрочем, он с честью выйдет и из этого положения.
Религиозные, так называемые «цивилизованные» и «нравственные» проблемы волновали Мазарини гораздо меньше: Ришелье решил главную, самую серьезную из них — проблему «протестантской республики», ликвидировав ее Алесским эдиктом помилования[38] (1629 год). Так о чем же думала, что чувствовала эта религиозно умиротворенная Франция?
Спросим себя: можно ли было найти во Французском королевстве миллион человек, говорящих по-французски? Скорее всего, нет.
Конечно, следует отдельно рассматривать элиту (Дворян и буржуа, закончивших коллежи или получивших домашнее образование), уже больше века говорившую на «языке Луары» охотнее, чем на «языке Сены»: Болела[39], вслед за участниками Плеяды[40], разрабатывал и формулировал правила этого языка, его оттачивали и обогащали в замках, кабинетах министров (эдикт Виллер—Котре, 1539 год). Король и его чиновники говорили только на французском языке; управители краев, где жили бретонцы и баски, говорившие на провансальском языке, чиновники в Эльзасе, члены других лингвистических «семей» постоянно переводили на местный диалект документы и даже написанные неразборчивым почерком записочки из разных инстанций.
Рассказывать кратко, как это иногда делают, о Франции, говорящей на провансальском языке, сопоставляя ее с Францией, говорящей на французском языке, или лангдойле, значит не рассказать ничего. Тот язык, который мы окрестили провансальским, распадался на дюжину более или менее родственных наречий (то же, кстати, относится и к лангдойлю) и не похожих один на другой местных говоров. Парадоксально, но факт: еще в тридцатых годах XX века крестьянки из Перигора, жившие в четырех лье друг от друга, могли объясниться между собой на рынке только на исковерканном французском языке. Если мы вернемся в «старые добрые времена Регентства», то без труда обнаружим там мазаринады, написанные на орлеанском наречии «геспен», и две эпиграммы на кардинала, написанные на французском диалекте (на нем говорят на территориях между Сент-Уэном и Монморанси). Чтобы понять суть и смысл старинных эпиграмм понадобилось научное издание Фредерика Делоффра.
И все-таки, поскольку в основе своей социальные, экономические и даже политические отношения не выходили за пределы округа, края (территории, в радиусе достигавшей 10—15 километров?), диалектальные различия не создавали особых неудобств: всегда находились переводчики, пусть и не самые лучшие. Когда монархи и их многочисленная свита путешествовали по королевству, им приходилось выслушивать в маленьких городах речи на пикардийском или гасконском диалекте, что, однако, не слишком смущало парижан. А вот когда из Парижа приезжал какой-нибудь чиновник-финансист или интендант, говоривший только на «королевском языке», возникали серьезные проблемы. К слову сказать, это обстоятельство не прибавляло популярности чужакам.
На проблему неграмотности — в XVII веке, разумеется, — потрачено много чернил, о ней сказаны тысячи слов. Забудем об элитах — с ними все более или менее ясно; городские ремесленники и торговцы умели читать и писать, а с умением считать — то есть складывать и вычитать — они как будто рождались. В деревне, кроме кюри и нотариуса (конечно, там где он был), грамотными могли оказаться арендаторы сеньора да двое-трое богатых крестьян. Уметь разбираться в договоре аренды, в брачном контракте и долговых обязательствах было совершенно необходимо: абсолютно неграмотных французов, таких, что вместо подписи ставили крест, можно было обмануть и даже ограбить: чаще всего это случалось в центре или на юге Франции.
Благодаря брачным контрактам, под которыми всегда стояли подписи сторон и свидетелей (во всяком случае, такой стала процедура с 1667 года), можно было бы попробовать определить процент неграмотности: среди женщин их было больше, чем среди мужчин (прав был Кризаль[41]); на юге и в Бретани уровень неграмотности был ваше, чем в других областях. В нормандских, пикардийских, «французских»[42], шампанских деревнях и дальше, на востоке, иногда почти треть мужского населения умела расписываться разборчиво. Этот факт не означает, что у них было «начальное» образование, но определенные, так сказать, «рудименты» позволяли им читать разнообразные документы. Итак, мы можем утверждать, что сельские школы (об их существовании мы узнали из архивов французских провинций) были вполне эффективны. В таких школах учитель назначался с благословения кюри по выбору крестьян, они же ему и платили продуктами или небольшой суммой денег. Участие Церкви было не слишком значительным, ее интересовали главным образом города. Итак, в некоторых деревнях понимали: благодаря школе возможно защищаться и подниматься по социальной лестнице.
* * *
Проблемы верований, веры в Бога и мышления, пусть и самого элементарного, в последние десятилетия муссировались учеными, жаждущими все новых и новых сведений. Результаты изысканий не всегда оказывались убедительными, но позволяли, по крайней мере, выдвинуть некоторые гипотезы.
Можно, например, уверенно говорить о жизнеспособности той религии, которую так называемая католическая (слово, пришедшее из греческого языка и обозначающее: универсальная) церковь именует «так называемой протестантской», имевшей порядка 600 000 адептов. Эта религия, отвергнутая некоторыми родовитыми дворянскими семьями (частенько они поступали так из сугубой корысти, как это сделал, например, Конде-отец), все еще господствовала на части территории Юга, на западе страны, в долине Луары и блистала в трех знаменитых академиях — в Монтобане, Сомюре, Седане.
С тех пор как Ришелье разгромил их политическую и военную организацию (Ла-Рошель, 1628 год; Але, 1629 год), протестанты отличались верностью и талантом на службе короля, как, например, виконт де Тюренн. И они будут продолжать служить.
Во всем остальном никакой ясности не существует, хотя историки сломали немало копий и защитили груды диссертаций на эту тему.
Логично предположить, что любой, кто не исповедовал кальвинизм (пока нет лютеранского Эльзаса), был верным адептом апостольской католической церкви, причем ключевое слово здесь — Римская. Конечно, кто не крещен, вроде как и не живет вовсе, никто не может быть похоронен не по христианскому обряду, без отпевания, да и брак — христианское таинство. В каждой деревне, естественно, своя приходская церковь: ее колокол зовет на молитву и каждое воскресенье собирает прихожан на мессу, на сход, на собрание, а мужчин и на возлияния. Словно огромная христианская мантия окутывает королевство. Но что скрывается под ней?
Часто — много рвения, слепой веры и большое уважение к таинствам, трепетное почитание реликвий, мощей многочисленных святых, источников, камней, получудодейственных деревьев, над которыми воздвигнут крест, освещающий их. А еще — сентиментальное почитание Девы Марии, Евхаристии, Младенца Иисуса и Сердца Христова. В душах людей поддерживается страх перед сатаной, демонами и адом с его «кипящей смолой» и огромными чанами, «где поджаривают грешников», как пишет Вийон[43], посвятивший эти стихи своей матери. Это сложный христианский набор, в котором нежность, неистовство и страх соседствуют с кротостью, а простая набожность уживается с верованиями, пришедшими из глубины времен, которые не забыты и в нашем XX веке: всякое чародейство, колдуны и колдуньи, деревенские гадалки и городские отравительницы, добрые и злые духи, блуждающие огоньки, оборотни, огромные чудовища; что до фаз Луны, знаков зодиака и их влияния, так о них писали во всех альманахах, выходивших десятками тысяч экземпляров и продававшихся повсюду, причем рядом печатались поминания святых и метеорологические «прогнозы» (ежегодное повторение никого не удивляло!).
Итак, мы можем утверждать, что христианство смягчило, затенило, взяло верх или поглотило древнейшие религии, обожествлявшие силы природы, как и остатки язычества. До какой степени? Об этом спорят историки и ученые других областей знания, причем каждый делает собственные выводы.
Ничто — даже темные истории о колдунах, подобные той, что случилась в Лудене, — не могло встревожить или смутить государственных деятелей, и уж тем более Мазарини, много чего повидавшего в бытность свою в Италии.