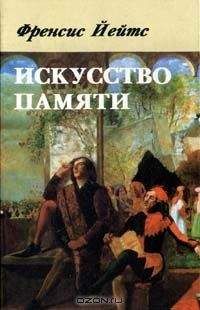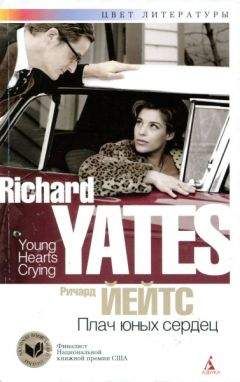Это определение памяти может напомнить о трех частях благоразумия; определение естественной и искусной памяти, конечно же, является отголоском начальных строк посвященного памяти раздела Ad Herennium, который был хорошо известен в традиции Ars distaminis. Здесь, по-видимому, мы обнаруживаем прообраз схоластического понимания благоразумия и искусной памяти, и остается узнать, как же Бонкомпаньо сформулирует правила памяти.
Но мы ждем напрасно, поскольку то, что Бонкомпаньо понимает под памятью, имеет мало общего с искусной памятью, как она представлена в Ad Herennium.
В результате грехопадения, уведомляет нас Бонкомпаньо, человеческая природа утратила свое первоначальное подобие ангельской, что пагубно отразилось и на памяти. В соответствии с "философской дисциплиной" душа, до того как она попала в тело, знала и помнила все, но с момента проникновения в тело ее знание и память приходят в расстройство; однако, это утверждение должно быть немедленно опровергнуто, так как оно противоречит "наставлению в теологии". Из четырех типов темперамента для памяти наиболее благоприятны сангвинический и меланхолический; особенно хорошо всё помнят меланхолики, благодаря своей твердой и сухой конституции. Автор верит в то, что звезды оказывают влияние на память, однако, как именно это происходит, известно только Богу, мы же не должны слишком стремиться к такому познанию.[105]
Против доводов тех, кто считает, что "естественная память не может получить никакой помощи от искусства", можно привести тот факт, что такие случаи упоминаются в Священном Писании. Так, например, апостолу Петру крик петуха напомнил слова Иисуса и это был "памятный знак", лишь один из "памятных знаков", встречающихся в Библии, длинный список которых приводит Бонкомпаньо.[106]
Но самым поразительным в отведенном памяти разделе труда Бонкомпаньо является, как мы увидим, то, что он включает в него память о Рае и Аде в связи с памятью как таковой и памятью искусной.
О памяти о Рае. Сподобившиеся святости… утверждают с уверенностью, что божественное величие восседает на величайшем троне, перед которым стоят Херувимы, Серафимы и все остальные ангелы. Мы читаем также, что там несказанная красота и вечная жизнь… Искусная память бессильна помочь человеку, когда он сталкивается с такими невыразимыми предметами…
О памяти о преисподней. Я помню, что видел гору, которую в книгах называют Этной, а в просторечьи — Вулканом, из которой, как я увидел, подплыв ближе, извергались серные испарения, пылающие и раскаленные; говорят, что так было всегда. Поэтому многие уверены, что тут-то и находится спуск в преисподнюю. Однако, где бы она ни располагалась, я твердо знаю, что Сатана, князь демонов, в ее пучине вместе со своими прислужниками.
О несомненно еретических утверждениях, будто существование Рая и Ада есть вопрос мнений. Некоторые афиняне, изучавшие философские дисциплины и запутавшиеся в чрезмерных тонкостях, отрицали телесное Воскресение… каковой проклятой ереси предаются многие и сегодня… Мы, однако, беспредельно верны католической вере и ДОЛЖНЫ НЕУСТАННО ПОМНИТЬ О НЕЗРИМЫХ РАДОСТЯХ РАЯ И ВЕЧНЫХ МУКАХ АДА.[107]
С первостепенной необходимостью помнить о Рае и Аде как основным пунктом применения памяти, несомненно, связан перечень добродетелей и пороков, приводимый Бонкомпаньо; он называет их "памятными знаками", которые мы можем назвать указателями или значками и посредством которых мы чаще можем указывать себе пути "воспоминания". Среди этих "памятных знаков" встречаются следующие:
… мудрость, невежество, проницательность, опрометчивость, святость, порочность, доброта, жестокость, добродушие, свирепость, хитрость, простота, гордость, смиренность, смелость, боязливость, дерзость, страх, великодушие, малодушие…[108]
Хотя Бонкомпаньо обладал несколько эксцентричным характером и не может считаться типичным представителем своего времени, все же некоторые соображения заставляют предположить, что благочестивое и морализирующее понимание памяти и области ее применения послужило фоном, на котором Альберт и Фома формулировали свои тщательно переработанные правила памяти. В высшей степени вероятно, что Альберту Великому была знакома мистическая риторика болонской школы, поскольку в Болонье находился один из крупнейших центров, утвержденных св. Домиником для подготовки ученого монашества для своего ордена. Вступив в доминиканский орден в 1223 году, Альберт обучался в доминиканском монастыре в Болонье. Маловероятно, чтобы между болонскими доминиканцами и местной школой dictamen не было никаких контактов. Бонкомпаньо определенно благоволил к монахам: в своем сочинении Candelabrium eloquentiae он с похвалой отзывается о доминиканских и францисканских проповедниках.[109] Возможно, поэтому, что раздел о памяти в риторике Бонкомпаньо предвещает те приведенные в огромном количестве упражнения для памяти, которые Альберт и учившийся у него Фома рекомендовали в своих Summa как пример добродетельного знания. Можно быть уверенным в том, что Альберт и Фома считали чем-то само собою разумеющимся — и это согласуется с традицией раннего Средневековья, — что "искусная память" соотносится с воспоминанием о Рае и Аде и с добродетелями и пороками как "памятными знаками".
Кроме того, мы обнаружим, что в более поздних трактатах о памяти, несомненно принадлежащих традиции, которая берет свое начало в схоластическом понимании памяти, и в некоторых случаях сопровождаются схемами этих "мест" для их использования в "искусной памяти".[110] Как выяснится позже, Бонкомпаньо предвосхитил и другие черты позднейшей традиции памяти.
Поэтому мы должны быть настороже и отвергать предположение о том, что, если Альберт и Фома так твердо отстаивают необходимость развития "искусной памяти" как части благоразумия, они имеют в виду именно то, что мы называем "мнемотехникой". Речь может идти, помимо прочего, о том, чтобы запечатлеть в памяти образы добродетелей и пороков, сделать их живыми и впечатляющими в соответствии с классическими правилами, чтобы они как "памятные знаки" помогали нам достичь небес и избежать преисподней.
Возможно, схоластики отводили особое место уже существующим представлениям об "искусной памяти" или переиначивали эти представления в рамках пересмотра всей системы добродетели и пороков. Эти общие изменения стали необходимы, после того как средневековая мысль открыла для себя Аристотеля, чей вклад в общую сумму знаний, которые надлежало удерживать в рамках католицизма, был в области этики не менее значителен, чем в других областях. "Никомахова этика" усложнила представления о добродетелях и пороках, как и об их частях, и новая оценка благоразумия, данная Альбертом и Фомой, следовала их общему стремлению привести представления о добродетелях и пороках в соответствие с требованиями времени.
Примечательным новшеством была их интерпретация наставлений в искусной памяти в терминах психологии, как она представлена в аристотелевском труде "О памяти и припоминании". Их триумфальный вывод о том, что Туллиевы правила подтверждены Аристотелем, в корне изменил отношение к искусной памяти. Вообще-то риторика занимала в схоластике не слишком почетное место по сравнению с гуманизмом XII столетия. Но искусная память как часть риторики утвердилась в системе свободных искусств и стала не только частью одной из основных добродетелей, но и достойным объектом диалектического анализа.
Обратимся к тому, как истолковывают искусную память Альберт Великий и Фома Аквинский.
* * *
Сочинение Альберта Великого De bono, как следует из названия, это трактат "о добре", то есть трактат по этике.[111] Его основу составляют разделы о четырех основных добродетелях: твердости духа, умеренности, справедливости, и благоразумии. Эти добродетели представлены с помощью определений, приводимых в "Первой Риторике" Туллия; из De inventione взяты и их части или подразделения. Конечно, автор ссылается и на другие авторитетные источники — как на отцов церкви, так и на язычников — Августина, Боэция, Макробия и Аристотеля, но структура четырех разделов этой книги, посвященных четырем добродетелям, и основные определения заимствованы из De inventione. Создается впечатление, что Альберт почти столь же страстно стремиться привести этику Нового Аристотеля в соответствие с этикой, содержащейся в Tуллиевой "Первой Риторике", сколь и с этикой отцов церкви.
При рассмотрении частей благоразумия Альберт заявляет, что будет следовать разделениям, приводимым Туллием, Макробием и Аристотелем, и начинает с деления, данного