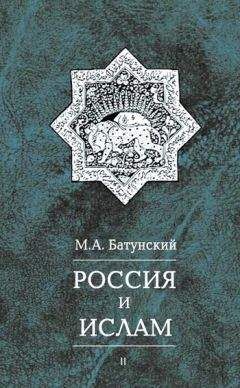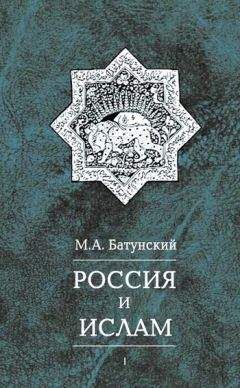Известный либерал-западник Б.Н. Чичерин (в годы, когда он еще не трансформировался в своеобразного либерала-консерватора; впоследствии он прямо признавал себя консерватором153) нашумевшей некогда статьей (брошюрой) «Восточный вопрос с русской точки зрения» опровергает утверждения правительства о том, что Крымская война – это «священная война» за права единоверцев и христианской церкви. Полемизируя не только с официальной идеологией, но и со славянофилами, подхватившими идею о Крестовом походе, Чичерин писал, что «век крестовых походов прошел: в наше время никто не подвигнется на защиту Гроба Господня… Ключи Вифлеемского храма служат предлогом для достижения вещей политических». Разговоры о посрамлении западных держав союзом с турками – это лишь «политическая уловка, которая никого не обманет». Чичерин не только высказывал свое недоверие официальным мотивам и целям страны; он, более того, находил их несовместимыми с внутренним строем Российской империи. По мнению Чичерина, если Турция и не вызывает сочувствия, то не из-за магометанства, а потому, что ее политическое устройство ведет к угнетению подвластного народа. И тут же он спрашивал:
«Но неужели мы пойдем на освобождение угнетенных в Турции, когда у нас у самих все общественное устройство основано на том же начале… тогда как наша Польша страдает под бременем ненавистного ига?» И Чичерин добавляет: «Мы в Турции никогда не являлись либералами, напротив, мы всегда были против всех реформ, сделанных в последнее время турецкими султанами»154.
Чичерин полагал, что Россия могла бы привлечь славян Османской империи на свою сторону, подняв революционное знамя. Но для этого, замечал он, ей нужно было носить революционное начало в самой себе и к тому же самой обновиться с головы до ног, преобразовать все общественные учреждения, освободить Польшу, отказаться от своего прошлого и пойти по совершенно новой дороге. В возможность такого внезапного изменения «коренных начал» русской государственной жизни Чичерин не верил и уповал на то, что военные неудачи окажут благодетельное влияние на внутреннее развитие страны155. Таким образом, можно с уверенностью фиксировать наличие особой – либеральной – точки зрения на «мусульманские проблемы» как вне России, так и внутри нее.
Различного рода мусульманским просветителям – о которых мы подробнее поговорим ниже – не могли не импонировать те требования, которые выдвигал русский либерализм156 устами Чичерина, в частности – лозунги свободы совести, свободы общественного мнения, свободы книгопечатания, свободы преподавания и т. п.157.
Еще дальше шел (в конце 50-х годов) другой видный либерал, С.П. Мельгунов.
Хотя не являясь принципиальным противником русификаторства, он, однако, порицал национальную политику Николая I.
«Мы полагаем, – заявлял он, – что даже теперь, после стольких ошибок и превратных мер, была возможность настроить на иной лад дело нравственного приобщения иноплеменных провинций к России. Сила не во внешней русификации, а во внутренней. Говори покамест на каком хочешь языке, исповедуй какую хочешь веру, только полюби Россию: вот что следовало бы дать почувствовать нерусским членам Русского государства. Тогда бы русификация совершилась сама собою». И далее: «К чему, например, возбуждали мы бесполезное недовольство на Кавказе, за Кавказом, в Придунайских княжествах и т. д. введением более или менее русского бюрократства и администрации? Неужели истинное государственное единство заключается в уничтожении всякой особенности, и цельность державы зависит от подведения всех под один уровень?»158
Но не будем преувеличивать различия между славянофилами и западниками в общем отношении их к нехристианскому (мусульманскому – в первую очередь) Востоку.
Так, либерал-западник Кавелин в 1866 г. большее место, чем прежде, отводит роли православия, особенно подчеркивая его значение в формировании великорусской народности. Он, в частности, утверждает, что «русский» и «православный» в народном понятии – одно и то же; православный, хотя и не русский по происхождению, считается русским, а русский, но не православной веры, не признается русским159. Словом, «сходство… с высказываниями Аксакова удивительное»160.
Еще одна цитата из Кавелина:
«В Великоруссии православие соответственно со степенью культуры получило характер государственного и политического учреждения, под покровом которого окрепло и выросло национальное самосознание». И тут же он полемизирует с теми, кто считал, что православие161, отделив Россию от остального образованного европейского мира, явилось главной, если не единственной, причиной «нашей видимой отсталости в культуре от прочих народов»162.
Согласно Кавелину, православие «оказало России неисчислимые услуги»: русские сохранили «сознание национального единства и не сделались добычей других христианских народов, опередивших нас в образованности». Но, как бы Кавелин ни разглагольствовал о достоинствах православия, он тем не менее совершенно недвусмысленно признавал, что славянские племена не могут развиваться, не усвоив (пусть и критически!) достижений европейской (а о восточной нет ни слова! – М.Б.) культуры. Что касается вопроса о роли в русской истории татаро-монгольского владычества, то Кавелин не склонен придавать ему решающего негативного значения. По его мнению, «татарское владычество было горестным, тяжелым и несчастным эпизодом русской истории; оно нас разорило, унизило, сдавило, замедлило, пожалуй, наше развитие, легло тяжким бременем на наши плечи, но напрасно станем мы отыскивать следов органического влияния диких кочевников на нашу жизнь»163.
Эти слова не надо, однако, понимать и как отвержение (очень модной на тогдашнем Западе) концепции о России как азиатской по преимуществу стране. Напротив, до Петра Великого «Московское государство было азиатской монархией в полном смысле слова. Односложная формация осуждала его на совершенную неподвижность (т. е. Кавелин именно в «вечной неподвижности» видит характернейший признак восточных социумов. – М.Б.), впредь до покорения другим народом или до внутреннего распада вследствие собственной дряхлости».
И если бы развитие Руси остановилось на этой точке, «трудно было бы сказать, что выиграла Великороссия перед западной Россией и прочими славянами, покорными чужеземному игу или принявшими исподволь нравы и язык других народов, более образованных… Самостоятельность на манер персидской или китайской едва ли чем лучше несамостоятельного участия в общем ходе культуры»164.
Обретший широкую известность своей речью в 1856 г. («О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала») либерал, казанский профессор Иван Бабст именно Турцию (где имели место «произвольные наезды башибузуков», лишавшие массы возможности более или менее эффективно трудиться) берет как образец «деспотического и произвольного управления» (хотя читатель мог отнести эти же слова и к тогдашней России), вследствие которого «иссякнет всякая энергия труда, всякая забота о будущем, об улучшении своего быта»165.
3. Петр Чаадаев: необходимость отчуждения от Востока, но признание позитивной роли ислама как отпрыска христианства
Требовались гораздо более развернутые и, главное, более глубоко проникающие в мироощущение эпохи, с большим и аналитическим и прогностическим потенциалом теории о подлинном статусе России в цепи Запад-Восток, теории, способные стать выше слишком ригористичных, замкнутых, изолированных доктрин и западников и славянофилов (во всяком случае, «типичных представителей» обоих этих движений). К тому же сколь бы ни казались те и другие на первый взгляд враждебными друг другу, по сути дела, всегда имело место «взаимное влечение». Оно, правда, вызывалось не действительной позитивной склонностью, а просто исчерпыванием прочих альтернатив и отсутствием эффективных перспектив избавления от «внутреннего неустройства». Поэтому «взаимное влечение» можно трактовать как негативную реакцию и западничества и славянофильства на самих себя, как бегство от себя и самоотдачу в другую, полярную себе, крайность.
Петр Яковлевич Чаадаев166 попытался в тогдашнем гулком разногласье, в ситуации, становящейся все более беспредельно-мозаичной дробности понятий, ценностно-поведенческих установок, аксиоматических допущений и т. д. и т. д., найти для своей страны последнюю смыслоизлучающую Истину.
В 1829–1831 гг. были созданы его «Философические письма», содержавшие уникальную для тех лет – когда распалась «цепь времен» и многое стало многими существенно реинтерпретироваться167 – трактовку прошлого и настоящего России, трактовку, и поныне поражающую своей смелостью, глубиной, дерзновенностью.