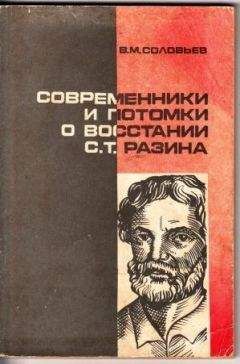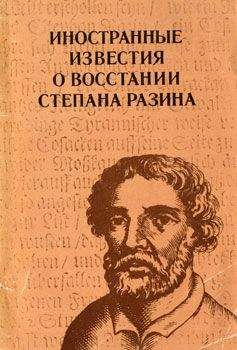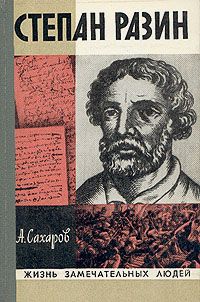Особых исторических последствий восстание Разина, по мнению С. М. Соловьева, не имело, хотя и довольно основательно потрясло общество. Куда более глубокий след по сравнению с этим движением оставил, по словам историка, раскол. Критерием определения степени значимости обоих событий служит для С. М. Соловьева то, что разинский бунт власти в конце концов подавили, а с церковным мятежом они так скоро сладить не смогли. «Впрочем, — оговаривается С. М. Соловьев, — разинское возмущение не было последним действием борьбы государства с казаками: в новой русской истории увидим Булавина и Пугачева»[144].
Страницы, посвященные разинскому восстанию, как всегда у Соловьева, отличаются необыкновенной полнотой фактов. Правда, о массовых казнях восставших, производимых карательными войсками, он умалчивает, ибо, вероятно, находит столь крутую расправу излишней.
При написании текста о крестьянской войне С. М. Соловьев широко использовал правительственные акты и документы (царские грамоты, воеводские отписки, челобитные) как опубликованные (в том числе и А. Н. Поповым), так и обнаруженные им в архивах. Высочайшую щепетильность проявлял историк при работе с известиями иностранцев, отдавая предпочтение в плане точности и достоверности материалам русского происхождения.
То обстоятельство, что автор знаменитой «Истории России…» включил в свое сочинение «явление… известное под именем бунта Стеньки Разина», безусловно имело большое положительное значение, пусть он и сделал это скорее всего для того, чтобы лишний раз продемонстрировать торжество государственного начала над силами анархии.
Параллельно с «государственниками» тогдашняя историография представлена и другими направлениями. Частично они нашли отражение и применительно к крестьянским войнам в России. Так, специальную монографию и развернутый очерк посвятил разинскому восстанию один из известнейших и оригинальных историков прошлого века Н. И. Костомаров[145]. Представитель романтической школы, он был убежден, что сами по себе факты, реальная канва событий не так важны, как их художественная подача. Резкая критика самодержавно-крепостнических порядков времен Московского государства противоречиво сочеталась в его трудах с апологетикой царизма, неподдельный интерес к народным движениям прошлого — с их осуждением. Так, крупнейшие восстания XVII в. он определяет как «взлом общественного строя», называет их «блестящими и бесплодными, как метеор», считает, что их вожди могли только поднять «кровавое знамя переворота русской земли вверх дном». Философия истории Н. И. Костомарова во многом восходит к положениям Шеллинга, который выдвигал на первое место духовно-нравственные и религиозные силы. В том или ином повороте событий Костомаров искал проявления «народного духа», который был, в его понимании, неким абсолютом, основой основ.
В советской историографии неоднократно отмечалось, что в работах Костомарова идет речь не о реальной борьбе общественных классов, а о столкновении «начал», что социальные антагонизмы подменяются им этническими, национальными[146]. Однако не пришло ли время отчасти пересмотреть эти оценки, признать их несколько односторонними? Ведь в том же «Бунте Стеньки Разина» у Костомарова сквозь налет столь свойственного ему романтизма проступают вполне реалистические оценки и наблюдения. Разве не Костомаров был первым, кто, обратившись к изучению крестьянской войны, попытался установить именно социальные ее предпосылки? Считая разинское восстание чисто казацким мятежом, историк в то же время не отмахивается от того факта, что не только на Дону, но и «в других местах русской земли» народ широко поддерживает это выступление. Задумываясь над тем, почему так происходит, Костомаров как на главную причину указывает на то, что С. Т. Разин («батюшка») обещал «всем русским людям казацкую волю». Кроме того, этот сочувствующий мятежным донцам народ, по словам Костомарова, — «люди, лишенные крова, зачастую голодные, готовые на всякий бунт и разбой». Немалая заслуга историка в том, что он попытался выяснить, отчего же создавалось такое положение, почему обширная часть населения страны оказалась без хлеба насущного и без крыши над головой. И он прямо связывает ухудшение жизни трудящихся масс с крепостническим законодательством середины века (Уложение 1649 г.), нестерпимым налоговым гнетом, произволом властей и т. д.[147]. Вот откуда взялся тот горючий материал (люди, готовые на бунт и разбой), который вспыхнул от первой же попавшей в него искры (разинского выступления), считает Костомаров. Таким образом, при общем отрицательном отношении к восстанию историк в то же время признает, что народ был доведен до крайности невыносимо тяжелыми условиями жизни и не мог не пойти за «воровскими казаками». Верно, что Костомарова пугают «неистовства черни», которая «разлакомилась на грабеж и кровь». Но вряд ли это дает основание утверждать, пусть и со ссылкой на собственные его слова, что он «не пошел дальше романтического обыгрывания „дикой самодеятельности“ разбушевавшейся народной стихии»[148].
Одна из существенных особенностей творческого почерка Н. И. Костомарова состоит как раз в том, что многие строки, вышедшие из-под его пера, разительно не соответствуют методологическим установкам автора, талант и художественное чутье нередко подсказывают ему больше, чем разум, и берут верх над его философскими позициями. В противном случае работы историка не пользовались бы такой популярностью среди передовой российской публики. Так, Н. Г. Чернышевский в предисловии к русскому переводу «Всеобщей истории» Г. Вебера (1889) писал, что «Костомаров был человек такой обширной учености, такого ума и так любил истину, что труды его имеют очень высокое научное достоинство. Его понятия о деятелях и событиях русской истории почти всегда или совпадают с истиной, или близки к ней»[149].
Видный социолог, переводчик трех томов «Капитала» на русский язык Н. Ф. Даниельсон, находившийся в длительной переписке с К. Марксом, в письме от 10(22) мая 1873 г. настоятельно рекомендует ему в числе прочих работ по истории России познакомиться с книгой Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», поскольку в ней очень мрачными красками обрисовано «положение крестьян в боярских и монастырских владениях», что делает вполне понятным и их протест[150]. Возможно, именно от своего петербургского корреспондента К. Маркс и получил костомаровское сочинение, которое прочел в подлиннике (он в это время усиленно изучал русский язык) и обстоятельно законспектировал[151]. Отнесясь к «Бунту Стеньки Разина» с неизменной критичностью, К. Маркс, однако, взял на вооружение целый ряд положений из социального диагноза Костомарова и, как уже отмечалось нашей историографией, «…солидаризировался со многими важными обобщениями автора»[152].
Однако общая концепция Костомарова в оценке разинского восстания по сравнению с тем же С. М. Соловьевым — это все же шаг назад. Подобно В. Д. Сухорукову и отчасти А. Н. Попову, он считал, что движение Разина вобрало в себя возмущение всех, кто ратовал за старину, за удельно-вечевые порядки, кто выступал против централизации и самодержавия. Казачество, по мнению Костомарова, олицетворяло те силы русского общества, которые добивались независимости и самоуправления. Подспудно они давно были готовы идти на борьбу с боярами, воеводами, приказными людьми и богачами, у них не раз возникала мысль, «как было бы хорошо, если бы на Руси истребить все, что давило простой народ, и устроить казацкую вольницу». Что же мешало осуществить эти намерения? «Нужно было только человека, — пишет Костомаров, — который бы соединил около себя всю донскую голытьбу и поднял ее на исполнение заветной думы, засевшей во многих головах». Когда такой человек явился, собрал вокруг себя «ватагу», незамедлительно вспыхнул бунт[153]. Рассматривая возглавленное Степаном Разиным восстание как запоздалое выступление, в котором «воскресли старые, полуугасшие стихии вечевой вольницы», Костомаров в отличие от того же В. Д. Сухорукова, заметно идеализирующего казацкое устройство, считал, что ни донцы, ни пошедший за ними народ не способны были проложить новый путь. В случае их победы, по мнению Костомарова, могла произойти лишь смена лиц, а затем неизбежно должен был возродиться старый социально-политический строй. Поэтому грандиозную борьбу восставших в XVII–XVIII вв. он находил анахронизмом, а потому — исторически бесперспективной. Эта точка зрения и ее разновидности стали в историографии предметом острой дискуссии и остаются таковыми до сих пор[154].
Не без передержек и преувеличений Н. И. Костомарову все же удалось передать, на каком высоком градусе ярости, неистовства, кровавой брутальности разгорелось и нарастало пламя «бунта Стеньки Разина». Он не стремится, подобно С. М. Соловьеву, обойти молчанием расправы царских карателей с мятежниками. Жуткие казни и пытки, применявшиеся к повстанцам, мучения, которым были подвергнуты Степан и Фрол Разины, описываются подробно, хотя и с излишним доверием к источникам.