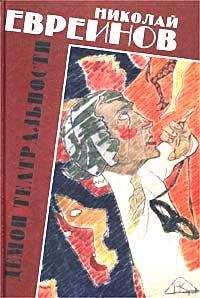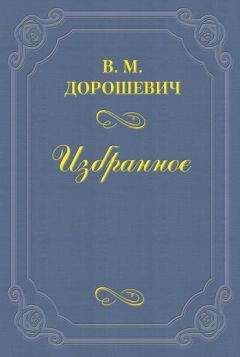Не тот же ли дендизм, общее говоря — не тот же ли театральный инстинкт побудил «костюмироваться» и других учителей современности в эпоху сумерек театральности? побудил даже некоторых буквально обратить свою жизнь в сценическое представление?
В противном случае, что значит монашеская ряса Бальзака и его трость с бирюзовым набалдашником, красная бархатная куртка и берет Рихарда Вагнера, средневековые черные и голубые одежды [Жозефа] Пеладана{148}, костюм [короля Франции XVII в. на короле Баварии XIX в., — ] Людовика XIV на Людовике II Баварском{149}, пунцовая одежда атамана разбойников на Ришпене{150}, старинный кавалерийский наряд [Габриэля] д’Аннунцио{151}, прическа à la Neron{152} и подсолнечник в туалете Оскара Уайльда{153}, малиновая подкладка плаща д’Оревильи, красный и зеленый носок на ногах Масканьи{154} и т. п.
Конечно, отделаться по поводу этих чудачеств смешком — один из способов отделаться вообще от проблемы театральности; но я полагаю, что серьезное отношение к жизни не исчерпывается исследованием лишь того, что нам представляется серьезным. «Пустяки» и «не пустяки» вряд ли могут быть квалифицированы в качестве таковых a priori. История дает нам и здесь подходящее подтверждение! — например, Рабле умер с шутовской гримасой — «tirez le rideau, la farce est jouée!»{155}, а композитор Люлли — даже {61} в шутовской позе: лег на золу с веревкой на шее и, нагло обморочив духовенство, горланил: «il faut mourir, pécheur»{156}, пока смерть не сдавила глотки этого веселого импровизатора покаяния. Не правда ли, люди не занимаются «пустяками», когда сознают свой последний час?
И для меня не «пустяки», например, такие исторические данные, как любовь Апеллеса{157} и Зевксиса{158} наряжаться какими-то фантастичными царями или невозможность для Гайдна сочинить хотя бы менуэт без того, чтоб не облечься в тот сложный придворный наряд, который, казалось бы, должен был лишь служить помехой свободному творчеству.
Сопоставляя такие «пустяки», начинаешь как-то особенно ясно понимать идею Уайльда о долге человека самому стать произведением искусства, — идею, несомненно, навеянную Флобером, утверждавшим, что «искусство выше жизни», что «человек ничто, произведение все», и оценивавшим себя, как какую-то художественную мозаику: «я что-то вроде арабески наборной работы: есть куски из слоновой кости, золота и железа, некоторые из крашеного картона, одни из бриллиантов, другие из жести».
Самому стать произведением искусства!.. Не этот ли строго театральный императив побуждал грека ставить в комнате жены статую Гермеса или Феба, дабы она рождала детей, подобных произведениям искусства, и не тот же ли императив обусловил побеги мальчиков в Америку Майна Рида, сыск à la Шерлок Холмс, самоубийства à la Ролла{159} или Вертер{160}, поступление в разбойники по образу шиллеровских и пр.
Лишенные таланта разыгрывают роли, сочиненные другими, одаренные же им воплощают в жизни плоды своей фантазии, как, например, Гюисманс, живший многогранною жизнью своего Дез-Эссента{161}, или Бальзак, воображавший себя близким другом никогда не живших Гранвилей{162}, д‑ра Бенаси{163}, барышни Кормон{164} и даже считавший мир реальный за неинтересный вымысел: «все это так, мой друг, — сказал он однажды приятелю, сокрушавшемуся о болезни родной сестры писателя, — но вернемся к действительности и поговорим о Евгении Гранде».
Л. Вальдштейн в своей нашумевшей книге «Подсознательное “я”» говорит об одной писательнице, вымышленные образы которой достигали такой степени жизненности и с такой силой вторгались в сферу ее внимания, что ее собственной сознательной жизни начинала грозить опасность быть подавленной ими. «Мое лицо, — признавалась эта писательница, — казалось в зеркале чьим-то другим, и я должна была делать усилие, чтобы придать чертам своего лица обычное выражение».
Ж. д’Удин в своей книге «Искусство и жест» рассказывает об одной девушке и ее отце, которые, «хотя и вполне уравновешенные и, по-видимому, положительного образа мыслей, имели странную привычку. Они выдумывали романы или, вернее, один единственный роман, без заключения, как действительная жизнь. Они никогда не писали, продолжали его до бесконечности и вечно над ним сотрудничали. Они мысленно устанавливали характеры своих героев и во время ежедневных прогулок обсуждали житье-бытье этих воображаемых существ. Самым серьезным образом отец, {62} бывало, говорит дочери: “Ты знаешь, Жанна, Поль Летеллье скоро женится на Фернанде; родители согласны”. И Жанна вполне убежденно отвечала: “О папа, как Луиза будет ревновать, как она будет страдать…”» На свою собственную жизнь эти мечтатели, должно быть, смотрели главным образом как на жизнь «хороших знакомых» Жанны, Поля Летеллье, Луизы и других фантомов, бывших для них большей реальностью, чем они сами, скромные буржуа-наблюдатели. — И жизнь могла бы рассказать нам еще тысячи таких примеров.
«Грезы, — замечает Ж. д’Удин, — приносят нам ритмы, способные изменить наш умственный строй, т. е. равновесие нашего внутреннего расположения, с такою же силой, как события и страсти действительной жизни. До такой степени, что в свою очередь человек, привыкший всегда вибрировать под влиянием либо своих мечтаний, либо созданий других художников, привыкает к таким психическим ритмам, что сами события действительной жизни окрашиваются некоторой ирреальностью и принимают характер почти такой же субъективный, как и вымышленные ритмы, которыми он проникнут. Грезя грезу, мы, наконец, грезим и самое жизнь».
Нередко, театрализация превращается в настоящую манию, и тогда пред изумленным взором современников появляется какой-нибудь граф П. М. Скавронский{165} (посол в Неаполе в 1785 г.), у которого в имении никто, включая метрдотеля, кучера и выездного лакея, не говорил иначе как речитативом или короткими ариями all’improviso{166}; появляется, наконец, король Людовик II Баварский, который, устраивая обеды на двадцать персон, никого не приглашает, чтобы вести таинственные беседы с пустыми приборами, путешествует в Париж, не выезжая из манежа, катается, одетый Лоэнгрином, в лодке, влекомой лебедем, на крыше дворца строит целый ряд сказочных зданий, чтобы ночью прогуливаться по их анфиладам среди массы огней и «никого постороннего», кроме образов фантазии, не видеть, а когда министры будируют из-за расходов на такую театрализацию, подписывает, несмотря на всю свою гуманность, четыре приказа о наказании «нетеатральных» министров… розгами.
Эксцессы театральности редко проходят безнаказанно: понятие «ненормальности»{167} слишком общо, чтобы, при желании, не суметь подвести под ее сюркуп{168} всех, кто слишком откровенен в своей страсти к театрализации. Мы знаем, например, что стоило Сервантесу выпустить в 1605 г. первую часть «Дон Кихота», как в 1614 г. появилась подделка второй части{169}, где славный, но увы! слишком театральный даже для своего времени «Рыцарь Печального Образа» был немедленно посажен здравомыслящим подделывателем в сумасшедший дом. Нужно ли удивляться, что в Баварии 1886 года{170} не оказались «глупее» в отношении театральности оригинального короля!.. [Но в Испании «расправились» с вымыслом, а в Баварии живым страдающим существом, сознававшим всю глубину позора, на который обрекает его трезвая наука; — «что меня лишают правления — это ничего, — сказал арестованный, — но что меня делают сумасшедшим…» И стража оказалась бессильной, когда он предпочел тихие воды озера Штарнберг своему {63} кричащему позору. Тот, кто слишком полюбил мир преображения, для того нет возврата в мир действительности… И теперь, когда Мюнхен, резиденция покойного Короля Театра, стал настоящим средоточием сценической жизни Германии, — не удивляйтесь, если, разговорившись со старым, грубым бюргером о Людовике II, вы увидите, как плачут «закаленные» жизнью… Народ, который чуть не разорился, удовлетворяя театральные прихоти своего властителя, понял теперь, что он, как-никак, жертвовал богу, а не маммоне, жертвовал материальным в пользу идеального, жертвовал прозой ради поэзии. И этот народ будет еще долго плакать, вспоминая того, кто грубую жизнь обращал в волшебный театр.]
Ища во всем последовательность, я не понимаю, как это не засадили до сих пор в сумасшедший дом вообще всех тех, в ком слишком сильна потребность театрализации жизни, хотя бы в первую голову проф. Густава Роя и д‑ра Карла Гоффендера, представивших на конгрессе эсперантистов в Дрездене{171} проект «идеального» в художественно театральном отношении государства! «Я объездил всю Европу, — доказывал Гоффендер, — и мне надоели сухость, безобразие, контрасты и грязь европейских больших городов… И вот нам представляется случай преобразовать всю жизнь цивилизованного человека, жилище, привычки, обычаи…» В центре «белого города» предположен театр на 7 000 зрителей, а для последних особый костюм: красивая шляпа, черное джерси с широким поясом, цветные шаровары, свободный кафтан, чулки и белая обувь… Несмотря на всю странность такого проекта, он получил полное принципиальное одобрение конгресса, в чем я вижу знамение нашего времени, изголодавшегося по откровенной театральности, и вижу непоследовательность со стороны тех, кому дана власть пополнять дома умалишенных.