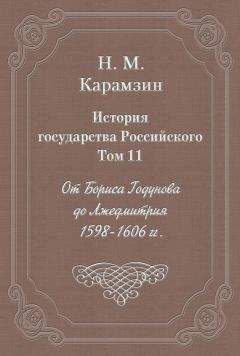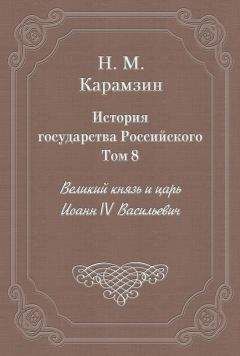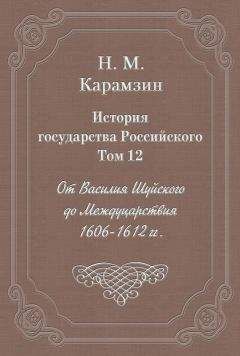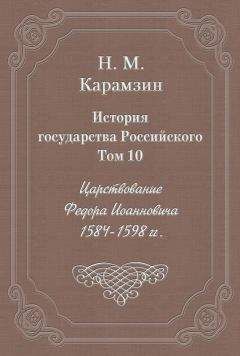Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедимитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренно или притворно, страстным ее любовником и вскружил ей голову именем Царевича; а гордый Воевода с радостию благословил сию взаимную склонность, в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые расстригою, который дал на себя следующее обязательство (писанное 25 Маия 1604, собственною рукою Воеводы Сендомирского): «Мы, Димитрий Иванович, Божиею милостию Царевич Великой России, Углицкий, Дмитровский и проч., Князь от колена предков своих, и всех Государств Московских Государь и наследник, по уставу Небесному и примеру Монархов Христианских избрали себе достойную супругу, Вельможную Панну Марину, дочь ясновельможного Пана Юрия Мнишка, коего считаем отцем своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения: тогда – в чем клянемся именем Св. Троицы и прямым словом Царским – женюся на панне Марине, обязываясь: 1) выдать немедленно миллион злотых» (1350000 нынешних серебряных рублей) «на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны Московской; 2) торжественным Посольством известить о сем деле Короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное; 3) будущей супруге нашей уступить два Великие Государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми Думными, Дворянами, Детьми Боярскими и с Духовенством, так чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять Наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви Латинской Веры, свободно исповедуя сию Веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем Государстве Московском. Если же – от чего Боже сохрани – Россия воспротивится нашим мыслям и мы не исполним своего обязательства в течение года, то Панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год», и проч. Сего не довольно: в восторге благодарности Лжедимитрий другою грамотою (писанною 12 Июня 1604) отдал Мнишку в наследственное владение Княжество Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар Королю Сигизмунду и Республике в залог вечного, ненарушимого мира между ею и Московскою державою… Так беглый Диакон, чудесное орудие гнева Небесного, под именем Царя Российского готовился предать Россию, с ее величием и православием, в добычу Иезуитам и Ляхам! Но способы его еще не ответствовали важности замысла.
Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию: весьма немногие знатные Дворяне, в угодность Королю, мало уважаемому, или прельщаясь мыслию храбровать за изгнанника Царевича, явились в Самборе и Львове: стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалованья, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее: на богатое вено Марины и доходы Смоленского Княжества. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были естественно искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из Московских беглецов, детей Боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством: пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно, и пред лицом Короля, свидетельствовал о сем грубом обмане вместе с товарищем расстригиным, Иноком Варлаамом, встревоженным совестию; что им не верили и прислали обоих скованных к Воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедимитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, Дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клевретами, пали к ногам мнимого Царевича и составили его первую дружину Русскую: скоро нашлася гораздо сильнейшая. Зная свойство мятежных Донских Козаков – зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, – Лжедимитрий послал на Дон Литвина Свирского с грамотою; писал, что он сын первого Царя Белого, коему сии вольные Христианские витязи присягнули в верности; звал их на дело славное: свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два Атамана, Андрей Корела и Михайло Нежакож, спешили видеть Лжедимитрия; видели его честимого Сигизмундом, Вельможными Панами и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный Царевич. Удальцы Донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам Самозванца. Между тем усердный слуга его Пан Михайло Ратомский, Остерский Староста, волновал нашу Украйну чрез своих лазутчиков и двух Монахов Русских, вероятно Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит Самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедимитрия к Россиянам с вестию, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить; а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северской, обрадовались: наступало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы: он поднял и Козаков Запорожских, прельщенных мыслию вести бывшего ученика своего на Царство Московское. – Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?
Еще прежде, нежели Самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В Генваре 1604 года Нарвский сановник Тирфельд писал с гонцем к Абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у Козаков: гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили Царю. В то же время пришли и вести из Литвы и подметные грамоты Лжедимитриевы от наших Воевод украинских; в то же время на берегах Волги Донские Козаки разбили Окольничего Семена Годунова, посыланного в Астрахань и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «объявите Борису, что мы скоро будем к нему с Царевичем Димитрием!» Один Бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя!.. но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов, и велев лазутчикам узнать в Литве, кто сей Самозванец, искал заговора в России: подозревал Бояр; призвал в Москву Царицу-Инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девичий монастырь с Патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предполагаемого кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну: но Царица-Инокиня, равно как и Бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия слыша о Лжедимитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав наконец, что Самозванец есть расстрига Отрепьев и что Дьяк Смирной не исполнил Царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить Россиян в маловажности сего случая: Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину: за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на Литовской границе, чтобы перехватывать вести о Самозванце, однако ж чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского, вместе с допросами Монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского, и мещанина Ярославца, иконника Степана: первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился; второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева Диаконом в Киеве и вором между запорожцами; что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник с умыслу Князей Вишневецких и самого Короля дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время Царь послал, от имени Бояр, дядю расстригина Смирного-Отрепьева к Сигизмундовым Вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника; послал и к Донским Козакам Дворянина Хрущова вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали: Вельможи Королевские не хотели показать Лжедимитрия Смирнову-Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого Царевича Российского; а Козаки схватили Хрущова, оковали и привезли к Самозванцу. Уже расстрига (15 Августа) двинулся с своими дружинами к берегам Днепровским и стоял (17 того же месяца) в Сокольниках: Хрущов, представленный ему в цепях, взглянул на него… залился слезами и пал на колена, воскликнув: «вижу Иоанна в лице твоем: я твой слуга навеки!» С него сняли оковы; и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстию, в знак усердия донес своему новому Государю, мешая истину с ложью, что «народ изъявляет в России любовь к Димитрию; что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были, по доносу слуг, осуждены на казнь; что Борис умертвил и сестру, вдовствующую Царицу Ирину, которая всегда видела в нем Монарха беззаконного; что он, не смея явно ополчаться против Димитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай Ханского впадения; что главные Воеводы их Петр Шереметев и Михайло Салтыков, встретясь с ним, Хрущовым, в искренней беседе сказали: нас ожидает не Крымская, а совсем иная война – но трудно поднять руку на Государя природного, что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну Московскую в Астрахань и в Персию». Годунов без сомнения не убил Ирины и не думал искать убежища в Персии; еще не видал дотоле измены в Россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к Самозванцу; с жадностию слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и терзаемый подозрениями, еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть Бояр и чиновников: но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к Литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости? Сия необходимость была уже очевидна: Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только Самозванца, но и крымских разбойников, убеждая Хана вступить вместе с Лжедимитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично к Королю Дворянина Огарева, усовестить его представлением, сколь унизительно для Венценосца Христианского быть союзником подлого обманщика; вторично объявлял, кто сей мнимый Царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает: мира или войны с Россиею? Сигизмунд хотел лукавствовать и подобно своим Вельможам отвечал, что не стоит за Лжедимитрия и не мыслит нарушать перемирия; что некоторые Ляхи самовольно помогают сему бродяге, ушедшему в Галицию, и будут наказаны как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога (пишет современник, один из знатных Ляхов), уверяя бессовестно, что Король и республика не участвуют в Димитриевом предприятии». – Уже Самозванец начал действовать, а Царь велел Патриарху Иову еще писать к Духовенству Литовскому и Польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника расстригу; все наши Епископы скрепили Патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева Монахом. Такую же грамоту написал Иов и к Киевскому Воеводе Князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца Диаконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви: обличить расстригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы Патриарховы не возвратились: их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни Духовенство, ни Князь Острожский: ибо Самозванец действовал уже с блестящим успехом.