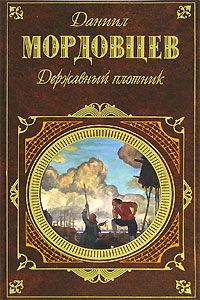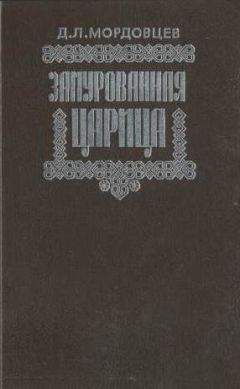Княгиня сидела у письменного стола, заваленного бумагами и книгами, и освещенного несколькими канделябрами с огромными восковыми свечами. Она была одна.
Против нее, освещенные ярким огнем свечей, горели на стене две золотые рамы, и с полотна, окаймленного этими рамами, глядели на нее два женских лица. Одно из них – молодое, свежее, прекрасное, полное юношеской энергии и девственной грации. Светлое платье, облекавшее собой стройную фигуру молодой женщины, придавало всей картине вид только что распустившейся белой розы. С другого полотна глядело на нее, по-видимому, то же лицо, но значительно старее, серьезнее и вдумчивее. Чем особенно поражало это второе лицо, так это тем, что оно, как будто, принадлежало мужчине: вся фигура – в черном, мало того – в мужском камзоле с манжетами и со звездой на выпуклой женской груди. И то, и другое лицо, и юное и пожилое, принадлежало княгине Дашковой – той, которая теперь сидела против них и с грустной задумчивостью на них глядела. Это были ее портреты – один, когда она была еще графиней Воронцовой и ей только что исполнилось семнадцать лет, другой – когда ей было уже за сорок и она титуловалась княгиней Дашковой, директором академии наук и председателем российской академии.
Глядя теперь на оба свои изображения, она мысленно, с грустью и горечью, переживала всю свою, полную глубоких впечатлений и жестоких разочарований жизнь.
Ей в эти осенние сумерки невольно припомнился теперь тот вечер, когда она в первый раз познакомилась с той, которая наносит ей теперь такие невыносимые оскорбления. Это было около тридцати лет назад, в доме ее дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, у которого она воспитывалась, оставшись сиротой. Та, которая теперь режет на части ее сердце, была тогда только еще великой княгинею, цесаревной. В продолжение всего этого памятного вечера цесаревна обращалась только к ней; разговор цесаревны восхищал ее, побеждал неотразимо: обширные познания, возвышенные чувства цесаревны – все это казалось юной энтузиастке выше всего, о чем могло мечтать самое пламенное воображение.
О! как она помнит этот вечер! Сколько юных грез и надежд он возбудил в ней! Как беззаветно она поверила тогда в вечность дружбы, в неизменную до гроба симпатию душ и как пламенно отдалась она тогда этой святой вере! И что же? Все это было только сон… А возвышенные чувства той, которая всецело пленила ее юную, неопытную душу, были только слова, слова, слова! Медь звенящая, а не сердце, фразы без души…
Да, она помнит этот вечер. Прощаясь тогда с хозяевами, цесаревна нечаянно уронила веер. Юная, очарованная ею до обожания графиня, вон та, наивная рожица которой теперь смотрит на нее с первого полотна, поспешила поднять веер и. подала цесаревне с таким благоговением, с каким верующие приближаются к святыне; но она, не принимая веера, поцеловала юную энтузиастку и просила сохранить эту безделушку, как память о вечере, проведенном ими вместе… «Надеюсь, что этот вечер положит начало дружбе, которая кончится только с жизнью друзей», закончила она.
«С жизнью друзей»… О, какую глубокую, обидную иронию создала сама жизнь из этих слов!
Та юная, улыбающаяся, которая смотрит теперь на нее с первого полотна, завещала было положить этот веер с собой в гроб; но эта другая, пожилая, со звездой на груди, та, которая задумчиво глядит со второго полотна – не сделает уже этого, – нет, не сделает…
«Дитя мое, не забывайте, что несравненно лучше иметь дело с честными и простыми людьми, как я и мои друзья, чем с великими умами, которые высосут сок из апельсина и бросят потом ненужную для них корку», – снова вспоминает она теперь слова, сказанные ей тогда же супругом ее кумира, – пророческие слова!
Княгиня откидывается в кресле и с грустной задумчивостью глядит на юное личико, выходящее, как живое, с первого полотна.
– Бедное дитя! – шепчут ее губы с любовью: – ты искренно верила, когда писала к своему кумиру:
Природа, в свет тебя стараясь произвесть,
Дары свои на тя едину истощила,
Чтобы на верх тебя величия возвесть,
И, награждая всем, тобой нас наградила.
– Да, ты верила, бедная, невинная девочка.
Княгиня, как бы, что-то мгновенно вспомнила и отворила один из ящиков стола, за которым сидела. Вскоре она вынула оттуда лист почтовой бумаги, кругом исписанный и пожелтевший от времени.
– Ровно тридцать лет, как это писано – и как полиняло написанное, как все полиняло! Помнишь это? – обратилась княгиня к юному лицу, глядевшему на нее с первого полотна: – это она писала тебе по поводу того твоего четверостишия – помнишь? Хочешь, я прочту тебе его, это полинявшее письмо? Слушай.
«Какие стихи! какая проза! И это, в семнадцать лет! Я вас прошу, скажу более – я вас умоляю не пренебрегать таким редким дарованием. Я могу показаться судьей не вполне беспристрастным, потому что в этом случае я сама стала предметом очаровательного произведения, благодаря вашему обо мне чересчур лестному мнению. Может быть, вы меня обвините, в тщеславии, но позвольте мне сказать, что я не знаю – читала ли я когда-нибудь такое превосходное, поэтическое четверостишие. Оно для меня не менее дорого и как доказательство вашей дружбы, потому что мой ум и сердце вполне преданы вам. Я только прошу вас продолжать любить меня и верить, что моя к вам горячая дружба никогда не будет слабее вашей. Я заранее с наслаждением думаю о том дне будущей недели, который вы обещали мне посвятить, и надеюсь, кроме того, что это удовольствие будет повторяться еще чаще, когда дни будут короче. Посылаю вам книгу, о которой я говорила: займитесь побольше ею… Расположение, которое вы мне выказываете, право, трогает мое сердце; а вы, которая так хорошо знает его способность чувствовать: можете понять, сколько оно вам благодарно. Ваша Екатерина».
– Помнишь это, дурочка? А я-то помню?
Она бережно сложила пожелтевший лист и долго на него глядела.
– Осенний лист, осенний лист, оторванный от дерева, оторванный от сердца и унесенный ветром в реку забвения.
Княгиня опять задумалась. Этот хмурый осенний вечер напомнил ей другой вечер, ясный, летний, и другую ночь – палевую ночь, безумную ночь!.. Это была ночь на 28-е июня 1762 года…
У нее сидит Панин, Никита Иванович. Идет тихая беседа о новом императоре Петре III, о новых порядках, о тревожных слухах – о том, что император намерен заключить в монастырь свою супругу, Екатерину Алексеевну… Вдруг является Григорий Орлов. «Пассек арестован»!.. Пораженная этим известием, юная княгиня, накинув на плечи длинный мужской плащ и надвинув на глаза широкополую мужскую шляпу, спешит предупредить об этом друзей императрицы…
Как она помнит эту страшную, безумную ночь!.. Перед ней эта громадная фигура Орлова – он в нерешимости… «Нет! – говорит ему юная княгиня: – тотчас скачите в Петергоф, будите императрицу, и пусть лучше вы привезете ее сюда хоть в обмороке – лучше, чем видеть ее в монастыре или вместе с нами – на эшафоте»!…
И эта безумная ночь прошла… Княгиня припоминает теперь, как ее утром проносили на руках в Зимний дворец через головы народа и войск, окружавших дворец… Платье ее изорвали, волосы растрепали… И вот она в объятиях у своего кумира… «Слава Богу! слава Богу!» – только и могли выговорить взволнованные женщины.
А эта другая палевая, безумная ночь, когда во главе пятнадцатитысячного войска две молоденькие женщины – одна вот эта юная, что смотрит со стены из золотой рамы, другая – уже с андреевской лентой через плечо, ласковая и грозная, – следовали в Петергоф рядом на серых конях драгоценной крови. Та женщина, что с андреевской лентой, едет отнимать последнюю тень власти у мужа-императора, а эта, юная – у своего государя и крестного отца.
«Дитя мое, не забывайте»… Нет, она забыла тогда, и только теперь вспомнила, когда из апельсина высосали весь сок… Поздно!
Она взглянула на другое лицо – на лицо пожилой женщины, выступавшее из темного полотна за золотой рамой. Ей показалось, что на этом лице мелькнула насмешливая улыбка. И ей вспомнилась такая же насмешливая, хотя снисходительная улыбка Вольтера, который, сидя в своем глубоком кресле, слушал, как она рассказывала ему о двух палевых петербургских ночах 1762 года. Как он хорошо все предвидел!..
Вдруг на дворе послышались какие-то голоса, шум, говор. Княгиня прислушалась. Ветер завывал в трубе и шум на дворе усиливался.
– Гони их! Бей – не жалей! – слышались голоса.
– Что такое? Что случилось?
Княгиня поднялась и поспешила к окну, но на дворе и в саду господствовал мрак и в этом мраке метались какие-то неопределенные тени.
Вдруг послышался глухой удар и визг. «Бей их, проклятых»!
Княгиня сразу опомнилась. Это опять забрались в сад свиньи ее соседей – ее злейших врагов, отравивших последние годы ее жизни. В ней закипела злоба – злоба за все – за прошлое, настоящее, за те безумные палевые ночи, за холодность, за отчуждение, за потерю веры, за все, о чем она с такой горечью думала в этот пасмурный осенний день и весь этот хмурый вечер, – о чем безмолвно говорили ей эти портреты, вон то пожелтевшее как осенний лист письмо и тогдашняя улыбка Вольтера… Эти Нарышкины!