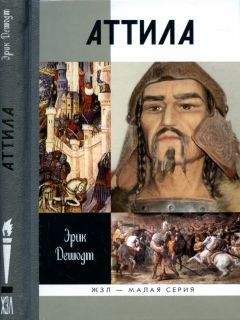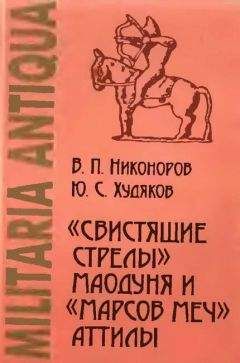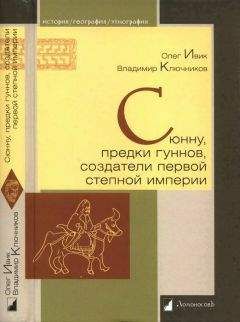— В последний раз спрашиваю, — произнес Аттила без всякого гнева, — кто тебя послал?
— Хрисафий! — крикнул Вигила и лишился чувств.
— Я давно это знал, — сказал Аттила.
Можно ли поверить в то, что случилось потом?
Когда Вигила пришел в себя в своем узилище, перед ним стоял Эсла. Вигила спросил, что с ним собираются сделать.
— Ничего, — ответил Эсла.
— А мой сын?
— Завтра уезжает в Константинополь с Орестом.
Эсла также сообщил Вигиле о том, что его переводят в палатку сына и освободят, когда Феодосий заплатит символический выкуп. Вигила не верил своим ушам. Он якобы сказал: «Феодосий не заплатит!» А Эсла якобы ответил: «Выкуп будет чисто символическим, заплатит».
Константинополь. Хрисафию сообщили о прибытии гуннской делегации. Полный надежд, он устремился ей навстречу. Посольство возглавлял Орест. Его сопровождал сын Вигилы. Не обращая внимания на главного евнуха, Орест проследовал прямо в императорский дворец, где Феодосий в горячке ждал доброй вести. Орест протянул ему послание Аттилы. Разнервничавшись, император прочел вслух непростительные слова:
«Твой меченосец — убийца, пришли мне его голову, иначе я приду и обезглавлю его сам».
Хрисафий упал в обморок. Император опомнился:
— Ты получишь ответ завтра.
— Через час, — отрубил Орест.
Через час он вернулся. Феодосий вручил ему договор, в котором были тщательно соблюдены все условия Аттилы. Орест даже не взглянул на свиток, сунул его в рукав и сказал: «Я пришел не за договором, а за головой твоего евнуха».
Феодосий воскликнул, что это невозможно, и стал предлагать вперемешку всякие виды компенсации: земли, женщин, дворец для Аттилы в Константинополе… Орест ничего этого не хотел, он требовал голову главного евнуха.
— Приходи завтра, — предложил император.
— Даю тебе еще один час.
Явился Хрисафий, стал умолять и грозить: если его убьют, будет переворот. Император ответил, что сам это знает и не станет его убивать.
— Я оставляю Хрисафия при себе, — возвестил он Оресту, который пришел час спустя.
— Как хочешь, — ответил Орест.
Потом, по приказу Аттилы, вручил Феодосию мешок с золотом Вигилы. Император спросил, что они сделают с Вигилой. Орест ответил, что его отпустят лишь тогда, когда будет уплачен выкуп. Какой выкуп? Одна либра золота, Вигила большего не стоит. Феодосий уплатил. Орест ушел.
Вигилу отвезли в Константинополь. При нем было послание Аттилы — копия того, что уже вручил императору Орест: «Твой меченосец — убийца. Пришли мне его голову, иначе…»
Но когда Орест явился к Аттиле, тот сказал:
— Надеюсь, этот дурак не убил своего евнуха?
— А что?
— У нас есть прекрасный повод возобновить войну, когда мы сочтем нужным.
Дипломатия Аттилы была главным образом интуитивной и персонализированной. Она всегда соотносилась с собеседниками, причем с такой точностью, будто все их мысли и душевные порывы были известны наперед, а они сами — открытая книга.
Аттила с поразительной проницательностью и дьявольской изощренностью видел своих визави насквозь. Слабых он вел, куда хотел, менее слабых — куда мог, но всегда одерживал верх. Это был несравненный игрок в «кошки-мышки». Восточной империи он явил себя мастером этой игры, переполошив ее правительство. Феодосий уже потерял голову, когда предложил довериться суду Онегесия (это всё равно, как если бы поляки в 1938 году попросили Гитлера рассудить их в вопросе о Данциге), да так ее и не нашел.
Не хотим никого обидеть, но обаяние, под которое попали столько вождей кавказских, поволжских и донских племен, храбрых и гордых, донельзя свободолюбивых, которых он покорил в первую очередь, не является неопровержимым доказательством его гения. Тех он покорил или обаял бы в любом случае, потому что был их сродственником, и они признавали в нем свои амбиции, которые самые дерзкие из них лишь лелеяли в своей душе, наконец, потому, что он был сильнее. Но не будь они ему верны, он не смог бы выйти за пределы родной степи.
Всегда ненадежная покорность мрачных кочевников, которых он понимал как никто (стимулирующая ненадежность для такого темперамента, как у него), однако, позволила ему приобрести стратегический глубокий тыл и присвоить себе, не боясь показаться смешным, титул императора, ставивший его вровень с номинальными государями европейского Востока и Запада.
За его головокружительную карьеру (вся эпопея Аттилы уложилась в 12 лет, с 441 по 453 год) войне отводилось гораздо меньше места, чем обсуждениям, переговорам, соглашательствам. Наверняка он сознавал непрочность собственной позиции, прежде всего в демографическом плане: гунны, как мы видели, не размножались, как кролики. Степной лучник, способный неутомимо мчаться галопом, не заводил достаточно детей, чтобы обеспечить благоденствие империи после своей смерти. Поэтому Аттила гораздо бережнее относился к своим людям, чем Наполеон или главнокомандующие Второй мировой. Бич Божий никогда не разил вхолостую.
Убедившись в надежности своих тылов на востоке (китайцы не смогут мгновенно пробиться к Уралу), Аттила уступил западному тропизму великих нашествий. Римская империя, ставшая двуглавой после смерти Феодосия-старшего в 376 году, за 20 лет до его рождения, была его неизменной целью.
Какую голову отрубить в первую очередь? Ближайшая, восточная, могла бы оказаться самой грозной, если бы там вдруг объявился император, достойный этого звания. Прежде чем идти дальше на Запад, он подчинил своей власти Восток.
Наверное, Феодосий Каллиграф был противником, о котором можно только мечтать. Нерешительный, впечатлительный, подверженный влияниям, трусливый до крайности, в душе ненавидящий царствовать; помыкаемый то своей женой Афинаидой, то своей старшей сестрой Пульхерией, то своим главным евнухом; избегающий своих обязанностей, предаваясь охоте, богословию, юридическим комментариям и каллиграфии, в которых он поднаторел, что и служило для него хоть какой-то опорой.
И всё же он был главой державы, престиж которой при ином правителе не был бы всего лишь фикцией. А Аттила без единого выстрела сделал его своим данником. Он понял, что Феодосий заплатит любую цену, лишь бы не было войны. Оккупировать Восточную империю не имело смысла, она и так уже была завоевана в 449 году. В этом плане хватило дипломатического устрашения. Полки Аттилы остались нетронутыми, а его сокровища стали баснословными.
В общении с Восточной империей Аттила разыгрывал дерзость (от его иронии у византийских послов кровь стыла в жилах), гнев или отстраненность, как заправский актер. Набранное им окружение с неизменной эффективностью будет проявлять безграничную преданность ему. Его доверенные люди изображали веселость и непринужденность, сбивавшие с толку их противников. Такое впечатление, что они становились на него похожими или же веселый и шутливый нрав был присущ темпераменту гуннов.
В этом плане показательно поведение Берика, сопровождавшего в Константинополь посольство Максимина. Максимин спешил отчитаться перед Феодосием в безрезультатности своей миссии. Он пришел вести переговоры? Не о чем тут разговаривать.
Чрезвычайный посол глупого императора, о чем он подозревал, при всей своей лояльности к нему, не знал, что этот человек был настолько слаб, что безропотно одобрил план убийства своего «альтер эго» (по порядку империй и имперскому протоколу, бывшему в ходу в V веке), к которому и послал его для ложных переговоров. Не о чем было разговаривать, разве что подтвердить сдачу бездарного правителя.
У Максимина были сомнения, но не было уверенности. Он совершенно не знал о планах убийства, иначе бы и не поехал.
Аттила выпроводил его чрезвычайно учтиво и не просветил на этот счет — невероятно.
Поезжайте, будет с вас, скоро сами всё узнаете, словно хотел он сказать, — душа-человек: в глазах императора гуннов добродетельный человек заслуживал почтительного обхождения. И доверил честного человека (в данном случае это комплимент) своему помощнику Берику, гунну самой высокой пробы. Иначе говоря, внешне жестокому и переменчивому, а на самом деле — самому надежному.
Однако Берик поначалу был груб, почти невыносим с людьми, отданными под его защиту. Беспрестанно провоцировал инциденты, которые приходилось улаживать немедленно, чтобы не задерживаться в пути из-за обид. Одним словом, он обращался с послами императора Востока, как будто те не люди. Потом, когда чаша терпения наполнилась до краев, он смягчился, потребовал у местных старшин, встречавшихся на пути, чтобы те достойным образом принимали послов, сносивших его обиды. По приказу Аттилы в каждый, самый захудалый, лагерь устраивали торжественный въезд. На речи, возлияния и пиры уходила уйма времени.