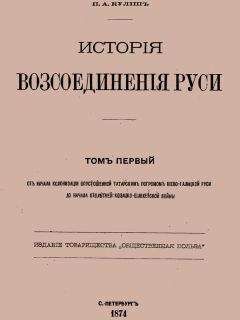Кисель уверял Хмельницкого, что слухи о приближении войска вымышлены, и просил его не верить слухам. Но Хмельницкий думал по-своему.
Недели через три, писал к нему король, называя его благородным и верномилым (urodzony i wiernie nam mily), требовал, чтоб он охранял общее спокойствие от своевольных куп, и указывал, что казаки все еще остаются в Любече, Лоеве, Стародубе и других городах Великого Княжества Литовского.
Хмельницкий отвечал ему, от 23 ноября, что войсковая ревизия производится с великою поспешностью, обещал прислать послов на сейм с верноподданническим повержением казаков к ногам королевского маестата и уведомлял, что Крымский хан, по давнишнему обычаю брать дань в черкасах (то есть в земле черкас, черкесов), прислал казакам наказ (przyslal do nas, abysmy), по вечной дружбе, которую они (татары) взаимно завзяли (zawzieli), дать ему две или три тысячи войска для взыскания дани (kazni), как это выговорено и при договоре с королем. «А татары» (писал он) «всегда готовы служить вашей королевской милости против каждого неприятеля».
Положение колонизаторов пустынной Малороссии было беспримерно горестное.
Дикая страна, в которой венецианский путешественник XV века, Контарини, не находил ночлега между Луцком, Житомиром и Белогородкою, эта Rossia bassa, в которой Киев стоял за чертою населенных мест (chi e fuori della detta Rossia), в которой видал он только пьянство, слыхал только про лесных бродяг, — эта панорама бесприютных и голодных трущоб трудами и подвигами их прадедов, дедов и отцов была превращена в страну, цветущую земледелием, скотоводством, промыслами, торговлею, — и созданное смелою, энергическою колонизациею предков многолюдство лишило потомков тех прав, которые были утверждены веками, правительствами, народами, — лишило для того, чтобы «землю, текущую молоком и медом», превратить в такую бесприютную и голодную пустыню, какою Контарини видел ее с ужасом 175 лет назад...
Ach! czyjez serce, czyje w zalu sie nie nurzy? [12]
невольно повторяет потомок завзятых и беспутных казаков стих потомка не менее завзятой и по-своему беспутной шляхты, когда широкая земля, напоенная кровью тех и других, отвечает на его вопросы таким же широким молчанием.
Во na rozleglych polach rozlegle milczenie.
Tylko wiatr szumi, smutnie uginajac klosy;
Tylko z mogil westchnienie i tych jek z pod tpawy,
Со spia, ua zwiedlych wiencach swojej starej slawy [13].
Наших полонизованных русичей мы поминаем польскими стихами. Русских стихов не заслужили эти жертвы римской политики: они предпочли чуждый элемент элементу родному, и судьба жестоко покарала их за отступничество вместе с теми, для кого они сделались отступниками.
Православный предводитель полонизации, не умевший даже повторить малорусской фразы [14], Адам Кисель, изобразил их несчастное положение в письме к Оссолинскому яркими красками:
«Пять недель мииовало уже, как посылал я к Хмельницкому, и до сих пор не имею никакого ответа; а при этой его кунктации, всегда для меня подозрительной, чернь остается в купах и не пускает панов по домам. В Брацлаве убито несколько десятков, в Бышеве — десятка полтора. Меды, чинши, паствы, аренды с Киева и отовсюду берут на Хмельницкого; наконец, поташи, где еще были, распроданы... Получил я известие, что большая часть Орды осталась у него, и кочует здесь при нем. На мои вопросы: для чего? отвечают мне, что все это делают наши, которые уже и зимою грозят им войною; при этом охуждают пакты и чего только не говорят! А Хмельницкий все это знает и слышит. Шляхта же (nobilitas) доходит здесь до последнего отчаяния: негде и нечем жить. Хотели было ехать по своим домам, хоть бы нас, говорят, и перебили. Едва кой-как удержал я различными способами. Коротко сказать, нет уже ничего у тех, у кого было по 100.000 имущества: не за что купить хлеба».
Эту картину дополняет Варшавский Аноним рассказом о том, как бедные изгнанники возвращались «к своим порогам» по следам Киселя, въехавшего наконец в Киев на воеводство. «Хмельницкий показывал, будто бы искренно вводит их, и внушал подданным повиновение. Но едва вступила шляхта в свои дома, хлопство снова давай бунтовать, не терпя панов, и начало убийства. Пришлось опять бежать, унося свою жизнь. В Киеве не допустили их до города; скитались по предместью. Редко кому присылали из дому булку хлеба или возок сена, а тут наступила дороговизна. Что у кого еще было в запасе, все принуждены были выискрить. Не многим удалось даже коснуться границ имения своего».
Между тем Хмельницкий (рассказывает Аноним далее) накладывал невыносимые контрибуции в свою пользу на великие добра, которые надобно было возвратить панам, прочие раздал полковникам, захватил староства, замки, маетности, фольварки, забирая всюду доходы, скот, стада и что возможно было взять; чтобы не досталось владельцам, все брали в его скарб; обогащался один общим разорением и оставил владельцам одно право на вступление в те добра».
Кисель, вместе с Косовым, стал убеждать Хмельницкого, говоря, что он привлечет Божие благословение на своих детей, если приостановит разлив крови и слезы изгнанников. «Эти слезы» (внушал ему митрополит) «каплют из людских очей на твою душу. Ведь эти люди жили прежде изобильно, как и другие, а теперь у них нет и куска хлеба. Они же — наши собратия той же благочестивой веры, что и мы с вами, но дни свои проводят в поругании и в слезах. Некоторые перемерли с голода, а других замучили мужики. Бог это видит и грозит отмщением».
Хмельницкий отговаривался, что не он причиной медленности в исполнении Зборовского договора. «Это такое трудное дело» (говорил он), «что его можно сравнить с толстым и высоким дубом: пока он вырос, надобно было ждать столетие».
Объяснением этих слов было событие, случившееся вскоре после архипастырского увещания. «Когда компут 40.000-го войска приходил к концу» (рассказывает Аноним), «казаки-ветераны соглашались на Зборовский трактат, но те, которые завладели чужими добрами, и сделались из поспольства коноводами (hersztami) бунтов, эти отчайдуши, для того чтоб укрыться от кары за свои злодейства, домогались также включения в компут, а было такого своевольного хлопства, не хотевшего вернуться к повиновению своим панам, еще тысяч сорок. Они прислали к Хмельницкому послов, которые говорили ему: Так-то, пане гетмане, покидаешь ты заслуженных тебе людей! выдаешь ляхам на муки тех, которые тебя обороняли.
А ты ж присяг не отступать нас! Мир значит предательство. Под смирением кроется у панов обман и месть. Одн хотят обезоружить тебя, отнять у тебя верных воинов, чтобы скорее тебя погубить. Но если ты решился уже даться ляхам в обман и погибнуть, то мы будем искать такого, который будет вернее и лучше защищать казацкое имя». — Посольство это пришло к Хмельницкому от казаков поднестрян и побожан, прямых разбойников, предводителем которых был брацлавский полковник Нечай.
«Хмельницкий» (пишет Аноним далее) «боялся, чтобы казаки, воюя одни с другими, не выгубили сами себя, и потому начал благодарить своих бунтовщиков за гетманское достоинство; но потом стал почесывать в голове (poczal sie wglowie skrobac) и высказал Киселю свою тайную мысль: «Вы, паны поляки,» (говорил он) «принудили меня под Зборовым к нелепому делу, постановив, чтобы казаков было только 40.000 в компуте. А где мне девать такое множество людей? Они с отчаянья или на меня встанут, или на вас».
Мысль о неверности затеянного дела сопровождала все поступки Хмельницкого, и пробивалась даже в его хвастовстве перед ляхами. По возвращении своем из-под Зборова, он убеждал разнузданных сподвижников своих лестью. Подобно тому, как в свое время пьяница Бородовка ревел в казацкой раде: «перед Запорожским войском трепещет земля Польская, Турецкая и весь свет», Хмель проповедовал за чаркою, что под Зборовым сила казацкая взвешивалась на весах судьбы с силой польскою, и теперь де вся вселенная знает, что за народ казаки, какая потуга их, какое могущество. Но в то же самое время составлял себе гвардию, сверх татарской из отборных казаков. Эго было ему тем необходимее, что, для расплаты с ханом за Збаражский и Зборовский походы, обложил он поголовным налогом весь посполитый народ. Надворные татары и задобренные избранники казаки обеспечивали ему сбор поголовного налога в Украине так точно, как вооруженная сила помогала хану взимать с кавказских черкасов дань, или как называл ее Хмельницкий, казнь (kazn).
Относительно гарантии личной своей безопасности, казацкий батько не представлял исключения. Роты телохранителей, подобные варяго-русским дружинам, содержали при себе и те казацкие гетманы, которые предшествовали гетманам-бунтовщикам, так как всякая походная неудача подвергала казацкого вождя опасности потерять не только булаву, но и голову. Молодость и ученические годы казакованья Хмельницкого совпадали с тем временем, когда представители королевской власти журят бывало казаков за частое низвержение и убийство их избранников. Будучи страшен каждому в Украине, Хмельницкий должен был больше всех опасаться за свою судьбу и за жизнь. Отсюда-то и происходила та изменчивость в его чувствах и намерениях, которая озадачивала казацкого соблазнителя, Смяровского, и путала хитроумного политика Киселя.