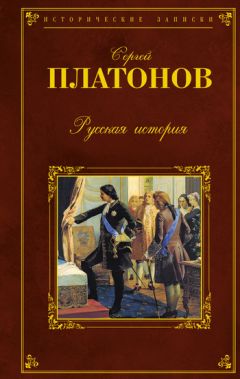В этом военном округе все правительственные действия и весь склад общественной жизни определялись военными потребностями и имели одну цель – народной обороны. Необычная планомерность и согласованность мероприятий в этом отношении являлась результатом общего совета – съезда знатоков южной окраины, созванных в Москву в 1571 году и работавших под руководством бояр кн. М.И. Воротынского и Н.Р. Юрьева. Этим советом и был выработан план защиты границ, приноровленный к местным условиям и систематически затем исполненный на деле. Свойства врага, которого здесь надлежало остерегаться и с которым приходилось бороться, были своеобразны: это был степной хищник, подвижный и дерзкий, но в то же время нестойкий и неуловимый. Он «искрадывал» русскую украйну, а не воевал ее открытою войною; он полонил, грабил и пустошил страну, но не завоевывал ее; он держал московских людей в постоянном страхе своего набега, но в то же время он не пытался отнять навсегда или даже временно присвоить земли, на которые налетал внезапно, но короткою грозою. Поэтому столь же своеобразны были и формы украинной организации, предназначенной на борьбу с таким врагом. Ряд крепостей стоял на границе; в них жил постоянный гарнизон и было приготовлено место для окрестного населения – на тот случай, если при нашествии врага будет необходимо и по времени возможно укрыться за стены крепости. Из крепостей рассылаются разведочные отряды для наблюдения за появлением татар, а в определенное время года в главнейших крепостях собираются большие массы войск в ожидании крупного набега крымского царя. Все мелочи крепостной жизни, все маршруты разведочных партий, вся береговая или польная служба, как ее называли, – словом, вся совокупность оборонительных мер определена наказами и росписями. Самым мелочным образом заботятся о том, чтобы быть «усторожливее», и предписывают крайнюю осмотрительность. А между тем, несмотря на опасности, на всем пространстве укрепленной границы живет и продвигается вперед, все южнее земледельческое и промышленное население; оно не только без разрешения, но и без ведома власти оседает на новых землицах, в своих «юртах», пашенных заимках и зверопромышленных угодьях. Стремление московского населения на юг из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитою поселенца была уже не засека или городской вал, а природные крепости: лесная чаща и течение лесной же речки. Недоступный конному степняку-грабителю, лес для русского поселенца был и убежищем, и кормильцем. Рыболовство в лесных озерах и реках, охота и бортничество привлекали поселенцев именно в леса. Один из исследователей заселения нашего Поля (Миклашевский), отмечая расположение поселков на украйне по рекам и лесам, справедливо говорит, что «русский человек, передвигавшийся из северных областей государства, не поселялся в безлесных местностях; не лес, а степь останавливала его движение». Таким образом, рядом с правительственною заимкою Поля происходила и частная. И та и другая, изучив свойства врага и средства борьбы с ним, шли смело вперед; и та, и другая держались рек и пользовались лесными пространствами для обороны дорог и жилищ; тем чаще должны были встречаться и влиять друг на друга оба колонизаторских движения. И действительно, правительство часто настигало поселенцев на их «юртах»; оно налагало свою руку на частнозаимочные земли, оставляло их в пользовании владельцев уже на поместном праве и привлекало население уже занятых мест к официальному участию в обороне границы. Оно в данном случае опиралось на ранее сложившуюся здесь хозяйственную деятельность и пользовалось уже существовавшими здесь общественными силами. Но, в свою очередь, вновь занимаемая правительством позиция становилась базисом дальнейшего народного движения в Поле: от новых крепостей шли далее новые заимки. Подобным взаимодействием всего лучше можно объяснить тот изумительно быстрый успех в движении на юг московского правительства, с которым мы познакомились на предшествующих страницах. Остерегаясь общего врага, обе силы – и общество и правительство – в то же время как бы наперерыв идут ему навстречу и взаимною поддержкою умножают свои силы и энергию. Знакомясь с делом быстрой и систематической заимки Дикого поля, мы удивляемся тому, что это широкое предприятие организовалось и выполнялось в те годы, когда по привычным представлениям в Москве существовал лишь террор умалишенного тирана.
Такой краткий обзор фактов деятельности Грозного. Эти факты не всегда нам известны точно; не всегда ясна в них личная роль и личное значение самого Грозного. Мы не можем определить ни черт его характера, ни его правительственных способностей с тою ясностью и положительностью, какой требует научное знание. Отсюда ученая разноголосица в оценке Грозного. Старые историки здесь были в полной зависимости от разноречивых источников.
Князь Щербатов сознается в этом, говоря, что Грозный представляется ему «в столь разных видах», что «часто не единым человеком является».
Карамзин разноречие источников относит к двойственности самого Грозного и думает, что Грозный пережил глубокий внутренний перелом и падение. «Характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка», – говорит он.
Позже было выяснено пристрастие отзывов о Грозном – как шедших с его стороны, от официальной московской письменности, так и враждебных ему, своих и иноземных. Историки пытались, учтя это одностороннее пристрастие современников, освободиться от него и дать свое освещение личности Грозного.
Одни стремились к психологической характеристике Ивана. Они рисовали его или с чертами идеализации, как непонятую веком личность (Кавелин), или как человека малоумного (Костомаров) и даже помешанного (П. Ковалевский).
Более тонкие характеристики были даны Ю. Самариным, подчеркнувшим несоответствие умственных сил Грозного с слабостью его воли, и И.Н. Ждановым, который считал Грозного умным и талантливым, но неудавшимся и потому болезненно раздраженным человеком.
Все такого рода характеристики, даже тогда, когда они остроумны, красивы и вероподобны, все-таки произвольны: личный характер Грозного остается загадкой.
Тверже стоят те отзывы о Грозном, которые имеют в виду определить его политические способности и понять его государственное значение. После оценки, данной Грозному Соловьевым, Бестужевым-Рюминым и другими, ясно, что мы имеем дело с крупным дельцом, понимавшим политическую обстановку и способным на широкую постановку правительственных задач. Одинаково и тогда, когда с Избранною радою Грозный вел свои первые войны и реформы, и тогда, когда позднее, без Рады, он совершал свой государственный переворот в опричнине, брал Ливонию и Полоцк и колонизовал Дикое поле, он выступает перед нами с широкою программою и значительной энергией. Сам ли он ведет свое правительство или только умеет выбрать вожаков – все равно. Это правительство всегда обладает необходимыми политическими качествами, хотя не всегда имеет успех и удачу. Недаром шведский король Иоанн, в противоположность Грозному, называл его преемника московским словом Durak, отмечая, что со смертью Грозного в Москве не стало умного и сильного государя...
Смута в Московском государстве
Итак, начальный факт XVII века – смута в своем происхождении есть дело предыдущего, XVI века, и изучение смутной эпохи вне связи с предыдущими явлениями нашей жизни невозможно. К сожалению, историография еще не разобралась в обстоятельствах Смутного времени настолько, чтобы точно показать, в какой мере неизбежность смуты определялась условиями внутренней жизни народа и насколько была вызвана и поддержана случайностями и посторонним влиянием. Когда мы обращаемся к изучению другой европейской смуты, французской революции, можно удивиться тому, как ясен этот сложный факт и со стороны своего происхождения, и со стороны развития. Мы легко можем следить за развитием этого факта, отлично видеть, что сам факт смуты – неизбежное следствие того государственного кризиса, к которому Францию привел ее феодальный строй; мы видим там и результат многолетнего брожения, выражавшийся в том, что преобладание феодального дворянства сменилось преобладанием буржуазии. У нас совсем не то. Наша смута – вовсе не революция и не кажется исторически необходимым явлением, по крайней мере на первый взгляд. Началась она явлением совсем случайным – прекращением династии; в значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и шведов и закончилась восстановлением прежних форм государственного и общественного строя и в своих перипетиях представляет массу случайного и труднообъяснимого. Благодаря такому характеру нашей государственной разрухи и является у нас так много различных мнений и теорий о ее происхождении и причинах. Одну из таких теорий представляет в своей книге «Истории России» С.М. Соловьев. Он считает первой причиной смуты дурное состояние народной нравственности, явившееся результатом столкновения новых государственных начал со старыми дружинными. Это столкновение – по его теории – выразилось в борьбе московских государей с боярством. Другою причиною смуты он считает чрезмерное развитие казачества с его противогосударственными стремлениями. Смутное время, таким образом, он понимает как время борьбы общественного и противообщественного элемента в молодом Московском государстве, где государственный порядок встречал противодействие со стороны старых дружинных начал и противообщественного настроения многолюдной казацкой среды. Другого воззрения держится К.С. Аксаков. В своей рецензии на VIII том истории Соловьева Аксаков признает смуту фактом случайным, не имеющим глубоких исторических причин. Смута была к тому же делом государства, а не земли. Земля в смуте до 1612 года была совсем пассивным лицом. Над ней спорили и метались люди государства, а не земские. Во время междуцарствия разрушалось и наконец рассыпалось вдребезги государственное здание России, говорит Аксаков. «Под этим развалившимся зданием открылось крепкое земское устройство... в 1612–13 гг. земля встала и подняла развалившееся государство». Нетрудно заметить, что это осмысление смуты сделано совершенно в духе его общих исторических воззрений и что оно в корне противоположно воззрениям Соловьева. Третья теория выдвинута И.Е. Забелиным. Она в своем генезисе является сочетанием первых двух теорий, но сочетанием очень своеобразным. Причины смуты он видит, как и Аксаков, не в народе, а в правительстве, иначе – в боярской дружинной среде (эти термины у него равнозначащи). Боярская и вообще служилая среда во имя отживших дружинных традиций (здесь Забелин становится на точку зрения Соловьева) давно уже крамольничала и готовила смуту. Столетием раньше смуты для нее созидалась почва в стремлениях дружины править землею и кормиться на ее счет. Сирота-народ в деле смуты играл пассивную роль и спас государство в критическую минуту. Народ таким образом в смуте ничем не повинен, а виновниками были боярство и служилый класс. Н.И. Костомаров высказал иные взгляды. По его мнению, в смуте виновны все классы русского общества, но причины появления этого переворота следует искать не внутри, а вне России. Внутри для смуты были лишь благоприятные условия. Причина же лежит в папской власти, в работе иезуитов и в видах польского правительства. Указывая на постоянные стремления папства к подчинению себе восточной церкви и на искусные действия иезуитов в Польше и Литве в конце XVI века, Костомаров полагает, что они, как и польское правительство, ухватившись за Самозванца с целями политического ослабления России и ее подчинения папству. Их вмешательство придало нашей смуте такой тяжелый характер и такую продолжительность.