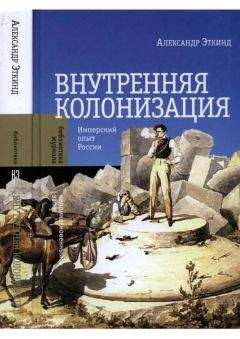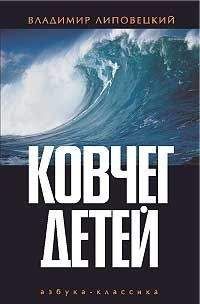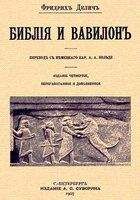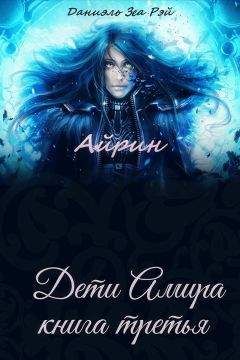Ссылаясь на этот портрет, Ключевский доказывал, что эти нелестные характеристики «русского характера» возникли именно как следствие колонизации — ситуации «гостя в собственной стране», и часто нежеланного гостя. В этом виден критический потенциал идеи российской колонизации, который осознавали, хотя и не вполне развили, ее отцы-основате-ли. Именно как «своеобразное отношение населения к стране», утверждал Ключевский, колонизация действовала «в нашей истории целые века» и действует «поныне». В колонизации Ключевский видел «основное условие», которое вызывало «своим изменением… смену форм общежития» в российской истории.
У самоприменимых суждений особенная логика. Если X делает Y с Z, как, например, в утверждении «Британия колонизовала Индию», это подразумевает, что X и Z уже существовали до того, как произошло действие Y. Но такая прямолинейная логика не работает в случае российской колонизации, потому что, как утверждали Соловьев и Ключевский, в ходе колонизации Россия создала саму себя. В их формуле «Россия колонизовала саму себя», X сделало Y с X. До Y не было X, и нет Z, которое изначально отличалось бы от X. Все они возникли одновременно. Как писал Ключевский, «область колонизации» в России «расширялась вместе с государственной ее территорией». Поскольку колонизованные области не сохраняли особый статус, а поглощались государством, в России нет причины различать колонии и метрополию. По мере того как расширялось государство, Россия колонизовала не только вновь освоенные территории, но и саму себя. Более того, центральные территории неоднократно подвергались процессу колонизации.
История России не есть история страны, которая колонизует, и она не есть история страны, которую колонизуют. «История России есть история страны, которая колонизуется». Спокойный, академический повтор в начале этой формулы никак не готовит к ее парадоксальной, деконструктивной концовке.
Однако формула устоялась и, более того, стала каноном. На деле и повтор в начале формулы («История России есть история страны») не тавтология. Соловьев и Ключевский предупреждают читателя, что в данном случае они говорят о России как о стране, а не как о народе, государстве или империи. В русском, как и во многих других языках, слово «страна» стоит между географической «землей» и политической «нацией». Именно это слово и было нужно историкам. Они не могли передать свою мысль без риторического повтора, потому что альтернативное определение (например, «История России состояла в колонизации самой себя») предполагало бы, что Россия существовала до этой самоколонизации. Но их замысел состоял в описании того циклического, рефлексивного или возвратного процесса, который создал и продолжает создавать Россию, осуществляющую этот самый процесс. Отполированная многократным употреблением, эта формула не могла выглядеть по-другому. Потому ее и повторяли, как мем.
Школа колонизации
Последователи Ключевского различали разные способы колонизации России: «свободную колонизацию», которую вели частные люди — беглые крепостные, солдаты-дезертиры, гонимые сектанты; «военную колонизацию», ставшую результатом военных кампаний, от взятия Новгорода и Казани до операций на Кавказе, в Средней Азии, на Амуре; «монастырскую колонизацию», сосредоточенную вокруг крупных православных обителей, которые владели тысячами крепостных, вели торговлю и создавали фактории; и «казацкую колонизацию», которая осуществлялась сословием, созданным империей специально для задач внешней колонизации и пограничной службы (но по мере продвижения границ на восток, превращавшегося в касту, неспособную к внутренней колонизации). Историки рассказывали о том, как пути России на восток были проложены промышленниками, благословлены монахами, укреплены казаками и культивированы поселенцами. Цель школы Ключевского была в том, чтобы создать систематизированный и взвешенный обзор этих событий, выявляя цивилизационную миссию России на просторах Евразии. Верные делу русского национализма, ученики Ключевского склонны были недооценивать массовое насилие, которое несли с собой такие формы колонизации. Хотя именно местное сопротивление и колониальное насилие сделали необходимым все эти частоколы, стены и башни острогов, кремлей и монастырей, развитие которых было детально описано школой Ключевского, чувствительность к такому насилию и сострадание к его жертвам пришли с новым поколением историков, переживших российскую революцию. Став ее участниками, многие из них были арестованы или эмигрировали, но самые удачливые продолжали писать.
Ученик Ключевского, Павел Милюков, десятилетиями соединял историю с политикой. В молодости он успел принять участие в военных действиях на Кавказе (1877), а став преподавателем Московского университета, был уволен и осужден за политическую деятельность в столице (1895). С победой революции в феврале 1917-го он стал министром революционного правительства, а после большевистского переворота принял участие в Гражданской войне. Потом он многие годы играл роль политического лидера антисоветской эмиграции. В своем многотомном курсе российской истории Милюков лучше своих предшественников показал масштаб насилия, которого требовал процесс колонизации. Соединяя историческую традицию, полученную им от его предшественников, от Шлёцера до Ключевского, со столь же сильной этнографической традицией, развивавшейся от Гердера до Щапова, Милюков представил детальное исследование народов, которые были ассимилированы или уничтожены русскими в процессе их колонизации. Соединяя источники из государственных архивов с записками путешественников и солдат, а также с местными легендами, фольклором, названиями рек и селений, он восстанавливал имена исчезнувших народов, наносил их на географическую карту и пытался вернуть в историю. Для Милюкова это были и долг исторической памяти, и форма сопротивления режиму, творившему новое насилие в России. Понятие колонизации играло центральную роль в работах Милюкова. В статье, написанной им для Российской энциклопедии как раз в год его ареста говорится: «Колонизация России русским племенем совершалась на всем протяжении русской истории и составляет одну из самых характерных черт ее» (1895: 740).
Учеником Ключевского был и Михаил Покровский, который взял на себя непростую задачу подвергнуть ревизии наследие имперской историографии, приспособляя его к новым условиям, созданным большевиками, к которым принадлежал и он сам. Среди других своих идей он ценил «ересь», уподоблявшую развитие российской политэкономии «колониальной системе», как ее изображал Маркс в первом томе «Капитала». Скорее критик и полемист, нежели теоретик или архивный историк, Покровский видел в любом историческом сочинении кривое зеркало идеологии, подлежащей толкованию с марксистских позиций. Посвятив много язвительных страниц критике русских либеральных историков, Покровский подчеркивал влияние на них гонимого Щапова, считая учеником этого «материалиста» и самого Ключевского. Империя Романовых, писал Покровский, всегда оставалась «колониальной державой наиболее примитивного типа», а потому требовала экстенсивного развития на восток; так он объяснял войны на восточных рубежах империи. Сибирь, Кавказ, Средняя Азия — «громадный восточный пузырь, тяжелым грузом висевший на русском народном хозяйстве» (недавняя книга о Сибири [Hill, Gaddy, 2003] буквально повторяет этот образ). До тех пор пока у империи была возможность экстенсивного развития, она могла избегать социальных реформ и технического прогресса, поэтому именно «в колонизаторской деятельности Романовых» состоит причина российской отсталости (Покровский 1933: 248). Идеи Покровского о сущностном различии между двумя видами капитала, торговым и промышленным, давно устарели, но в его обличениях российской колонизации узнали бы свои идеи многие постколониальные историки, родившиеся столетием позже. Больше интересовавшийся историей международных отношений, чем социальными изменениями в России, Покровский писал и о попытках западных держав колонизовать Россию через систему банковского кредита. Занимаясь процессами внешней колонизации, он не воспользовался возможностями, которые мог бы ему дать марксистский анализ внутренней колонизации имперских пространств; а ведь на эти возможности прямо указывал Ленин (см. главу 1). Вступив в азартную полемику с Троцким и, кажется, снискав в ней симпатии молодых историков-коммунистов (см. главу 4), Покровский не знал, что после смерти подвергнется нелепой, но разрушительной критике Сталина. У меня нет сомнений, что основанием для кампании 1938 года, в которой школа Покровского объявлялась «базой шпионов, вредителей и террористов», были вполне реальные различия между агрессивным сталинским империализмом и освободительными, деколонизаторски-ми идеалами ранних лет революции. От них, именно как от идеалов, не должно было остаться и следа.