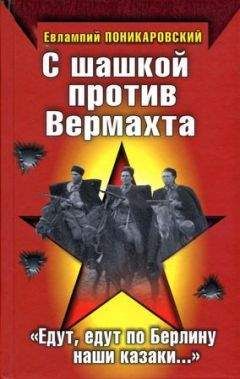Рабочие наказали своему совету:
- Будь у нас головой в борьбе. Слушать станем только тебя. Действовать станем только по твоему приказу. Смотри зорко, чтобы не рассыпалась наша рать, чтобы действовали фабрики дружно, чтобы ни одна не вступала в разговор со врагом одиночкой.
Совет мужественной, надежной рукой повел на приступ стачечные полки.
- Мы избрали своих делегатов, - утром говорили на площади. - Делегаты предъявили фабрикантам требования. Мы свое дело сделали. Ответ теперь не за нами...
И снова речи. Снова призывы к борьбе - корявые, обжигающие слова:
- Лучше всего за нас скажет сама нужда - нам ни свидетелей не надо, ни адвокатов. Велика нужда, но мы же не разбойники - чего эти торгаши с перепугу закрыли свои лавки, чего дрожите, окаянные?
Кругом на лавках, по торговым рядам на схлопнутых дверях чернели пудовые замки.
- Мы голодны, но не грабители мы, не тронем, не бойтесь...
По площади прогудело гордое сочувствие. Торгаши суетились у запоров, открывали витрины и двери. Площадь улыбалась, довольная.
- Сколько нам времени вести борьбу, того никто не знает, - снова говорил перед управой кто-то от партийного комитета. - Может, очень долго, товарищи. А ежели долго - значит, и трудно. Надо видеть вперед. Надо знать, что нужда может ухватить клещами. От имени комитета предлагаю теперь же выбрать пятнадцать человек, пусть они собирают гроши наши в фонд забастовки, - надо али нет, товарищи?
- Как же не надо? Знамо, надо! - тысячи криков скрепили предложение. И пятнадцать избранников - с шапками, с кепками - пошло по рядам. Кидали рабочие просаленные семитки, бережно отыскивали монетки, глухо завязанные в узелочки платков. Проходили сборщики и по торговым рядам. Кидали в шапку торгаши, приговаривали:
- Целковый отдашь, только бы кончили, сатаны, заваруху дьяволову.
Когда воротились, вытряхнули шапки - насчитали полтыщи рублей. Эх, какой капиталище на полсотни тысяч забастовщиков! Забастовочный фонд был создан, он хоть крохами, но все эти трудные недели и месяцы кормил голодную массу. Деньги в подмогу приходили и из Москвы.
Пока собирали, пока ходили шапочники, выступала Марта Сармантова она работала на Бакулинской вместе с Дунаевым.
На ящик, на бочку ли - взгромоздилась голиафского росту женщина: тонкая, как жердь, высоченная, как осина. Впала тощая, высохшая грудь у Марты; как нос покойничий, заострились высокие плечи, и оттого она казалась еще выше. Как ветряная мельница машет в бурю тонкими лопастями, вдруг замахала Марта Сармантова длиннущими руками над толпой и голосом острым, как точеное лезвие, полоснула площадь:
- Товарищи! Дайте слово сказать!
Как увидели ее - ветряную мельницу - весело заржали ближние, клекотом раскатили по рядам:
- Марта! Глянь-ка, Мартушка-то Сармантова!
- Она и есть - во баба!
- Я, ребяты, - сказала Марта громко, - я всю жизнь свою то и знала, что ютилась по углам. Этака бабища, да по углам - у-ух, тесно!.. То-то и вольно мне тут, на ящике, - маши, что хочешь, за угол, не бойсь, не завезешь. Первый раз без сгибу говорю...
Вся площадь сочувственной радостью подхрапывала словам Сармантовой. Она подхватила смешки, усмехнулась сама просторной улыбкой, говорила дальше:
- И вошла я здесь, товарищи, сказать вам про одно - про бабу-работницу, про горестное наше положенье, - как есть у всех мы на последнем счету. Что такое баба, коли нет правов и мужику, - ноль совершенный и пустой. Какую мы замечаем радость в жизни женской? Да совсем никакую, а жмут ее, бабу, со всех сторон, и труд свой она повсегда отдает дешевле, чем мужик, потому как баба почитается глупый человек. И притом неумелый. То-то неумелый, а ты сперва обучи, тогда и спрашивай. Вся жизнь проходит, как онуча в навозе гниет. Утресь беги по свистку, весь день голова как чужая, а в дому пришла - запрягайся до ночи в хомут, клещи-полощи, детей тащи, а где их, силы-то, возьмешь, когда по корпусу их осыпала. Эти, што ль, подмогут?
И всем диковинным корпусом перевернулась она на управу, вскинула страдальческие руки и другим голосом - расстановочно, с жутью прибавила:
- Этим што баба, што сука - один разговор. Таких кобелей словом не проскоблишь - с ними в дело надо браться. Товарки! Бабы! Ткачихи! Ладно хлопать ушами - и нам надо дело делать, неча зевать, то-то...
Марта Сармантова переступила на землю, а толпа восторженно ревела ей вслед. С того дня особо запомнили и особо полюбили Марту Сармантову.
Выступали потом на площади всяк со своим горем: приходили каменщики, плотники - жаловались на подрядчиков-живоглотов, говорили про авансы, про удавную петлю, в которую захлестывал хозяин, говорили про каторжную работу и грошовый заработок; выступали сапожники, били в грудь себя смоляными кулаками, плакали над пьяным своим понедельником, поясняли горестную жизнь.
- Каждый понедельник вдрызг сапожник пьян. Хорошо, пьян. А почему он пьян, от радости? Да с того же все горя разнесчастного... С той же все жизни серой, словно дратва сапожная... Не то запьешь - в веревку полезешь...
Говорили кухарки, господские прислуги, оповещали, как измываются над ними капризные барыни, держат ночь и день на цепи...
Стояли и слушали. Стояли и думали:
"Что это, как жизнь рабочая устроилась - работы, кажись, никто не боится, а всяк рабочий в нужде потонул, как пень в болоте?"
Тогда выступали большевики и рассказывали, как, отчего это все выходит, как надо бороться с врагом...
Из Владимира приехал губернатор. Вкруг губернатора сучкой перевивался Шлегель, жандармский ротмистр, служилый пес, - докладывал своему господину:
- Не извольте верить, ваше превосходительство, будто волнения происходят из-за заработной платы, - один предлог, ваше превосходительство. Все основание дела состоит в злостной агитации неблагонамеренного и вредного элемента, - вообще сказать, социалистов, ваше-ство. И смею предложить свое слово вашему превосходительству: всю силу нам полезно употребить именно в эту точку, следует изничтожить злокозненный элемент, причину всякого волнения, ваше превосходительство.
Губернатор раздумчиво мял усы, сочувственно хмыкал словам холопа, кивал доверчиво головой:
- Так-так... Это так... Это как есть так...
У губернатора готов был план помощи забастовщикам; в город стягивалась пехота, драгуны, на подмогу желтолампасным астраханцам откуда-то пригнали донских казаков; власти готовились обычным порядком.
Рабочие делегаты говорили с губернатором:
- Отчего молчат фабриканты? Ваше дело - на них подействовать!
Губернатор уверял, губернатор обещал. Губернатор пояснял через день:
- Поделать ничего нельзя: хозяева вольны отвечать и не отвечать, это ихнее право... Вот по гривенничку на рубль - они согласны...
Негодуя - отбросили подачку. Забастовку было решено продолжать.
Высылали фабриканты в разведку слуг своих - фабричных инспекторов. Старший губернский инспектор просил собраться обе стороны в мещанской управе и даже сам предложил совету рабочему выбрать на том заседании председателя - ишь ты, куда заметал. А потом - лисой... лисой... лисой...
- Вам, товарищи рабочие, самое удобное - это разобраться по фабрикам и вразбивку отстаивать свои требования.
- Мы же вам заявили на площади, - оборвали резко инспектора, - на то выбран совет, чтобы действовать дружно. Не бывать тому, чего хотите, и думать забудьте, господин инспектор...
Закусил инспектор удила - промолчал. Обсуждались требования, выработанные советом, - несколько десятков пунктов. Разбирали, поясняли, принимали. Среди заседанья прибежал кто-то от фабрикантов.
- В типографии требуется срочно отпечатать бумагу хозяину...
- Нельзя печатать!
- Но ему необходимо...
- Нам вот тоже тут необходимо: совет не разрешает печатать.
Масленой лисицей засластил было снова инспектор, хотел уговорить, убедить, но его и тут посадили:
- Обсуждайте пункты, господин инспектор, а насчет работы совет один справится: нельзя печатать!
Вспыхнул гневом инспектор, лязгнул в бессилье зубами и опять смолчал. Два его сопомощника тихо попыхивали глубоко припрятанным гневом.
Что б там ни было, пункты приняли. И политические приняли и фабрикантам всучили, а те похахалились:
- Учредительное собрание? Что же, можно, пожалуйста... Мы не возражаем, хоть завтра... А впрочем, с царем поговорите сначала, - может, он и не захочет. Ха-ха-ха!.. Что же вас касается по существу - гривенник на рубль и - более ни гроша!
А Бурылин, Гарелин ли Мефодка, треснул по дубовому столу кулачищем:
- В Уводи все деньги стоплю... По миру сам пойду, а не дам ни гроша подлецам; пущай дохнут, лучше работу не кидают. Против своего хозяйского слова - шагу не ступлю. Што сказано - свято!
Дикие речи сумасбродного толстосума доходили до рабочих, и в гневной ярости слушали они те слова:
- Забастовку продолжать! На работу не вступать! Врут, гады, - сдадут!