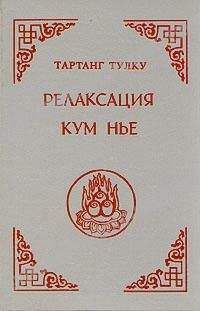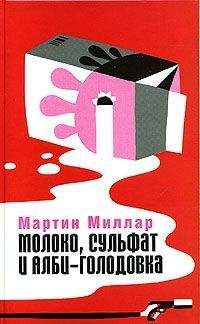Время действия романа начинается спустя столетие со дня заселения станицы - в лето господне тысяча девятьсот девятое, в кое припала юность наших героев, последних казаков буйного Терека и славной Кубани.
Место действия уже указано, хотя точности ради его следовало бы очертить до крохотного пятачка сказочно прекрасной земли в Предгорном районе, из конца в конец которого всадник проедет за полдня, а пеший пройдет за день. Однако во избежание патриотических споров, в какой именно станице все это случилось, и чтобы пальцем не показывали на соседа, скажем так: это случается всюду, где живут люди, всякий раз по-своему. Казакам не привыкать к дальним странам: прадеды выплясывали с парижанками, крестили язычников индеян в прериях Русской Калифорнии, в Китае чай пили и в Стамбуле детей оставили.
В туманной пелене грядой дремали горы-лакколиты, до каменных краев налиты нарзаном, богатырь-водой. Где ствол березы белой ник и никли кудри ив плакучих, пробился головой родник и зажурчал струей шипучей.
Текут года. Звенит в тиши ручей забывчивей и глуше. И разрастались камыши у поймы узенькой Кислуши. И кони, серый да гнедой, не смущены и зверьим лаем, брели сюда на водопой, как будто слаще тут вода им. За ними - люди. Как вино, играет, пенится соленый родник, пробившийся давно в скале от времени зеленой. Орлам и львам тут царство культа - их налепили тут везде. А тем коням доселе скульптор - на отдаленнейшей звезде.
И снова протекут года, пока узнают: не болото - а с серебром бежит вода, и закипит тогда работа. Узнают бабы, маету - от родников Горячих, Кислых они носили воду ту на ясеневых коромыслах. Ее в бутылки наливали с изображеньем царских птиц, и за границу отправляли, и в ресторации столиц.
И повалили господа, с кинжалом выставляя руку, зане целебная вода лечила их мигрень и скуку.
Лечился тут один поэт, чеканя строки на булате...
Молчит дуэльный пистолет в его казачьей белой хате.
Кружились листьями года. Росли в Предгорье города. Но прежде только вепря треск, медянки блеск да птичьи хоры. Безбрежно волновался лес, и спали молодые горы.
В громаде каменной брони навстречь ветрам, что с юга дули, как мастодонты, шли они на водопой и здесь уснули. Пророс кочевника скелет. Внизу желто от ярких примул. Цветут шафран и бересклет. Вот тур в полете тело ринул, Звенит капель. И весь апрель зарянки флейтовая трель.
СТАРИННАЯ НОЧЬ
Ночь была светлая, месячная, старинная казачья ночь. Над темными горами плыло казачье солнышко. Далеко внизу мерцали убого и сиро огоньки станицы. Скупо серебренной казацкой шашкой поблескивала, изогнувшись в долине, река - шум ее сюда не долетал. Могучие снежные горы спали, обнявшись с небом.
По узкой дороге чуть не отвесной крутизны медленно сползали стога сена и хвороста - ни коней, ни телег под грузом не видно. Кони садились на круп, как в цирке. Пахло потной сбруей, горячим дегтем, колесной мазью и паленым железом - из-под скользящих ошинованных железом колес, намертво схваченных коваными башмаками тормозов на цепях, летело кремнистое зеленоватое пламя жгутами искр.
Этот огонь злил Федора Синенкина, правившего третьим возом. Ему до смерти хотелось курить, но сзади на арбе, запряженной пряморогими татарскими быками, ехал его отец, дедушка Моисей. Он-то курил бесперечь, и порой ветерок наносил на Федьку, как звал его отец, пахучий дымок турецкого самосада.
Хотя Ф е д ь к е было за сорок, седела широкая борода и его сын служил государю, он не курил при отце, при старших. По заветам старой веры - а Синенкины старообрядцы - курить запрещалось, как и винопийство и бритье бороды. Но вера сдавала - и Моисей, и Федор курили. Федор с пеленок воспитан в презрении к табашникам и бритоусым. В детстве, бывало, увидит человека с трубкой или "козьей ножкой" в зубах - и бежит от него сломя голову, страшно, а на службе, скажи на милость, совратился никонианской травой. Когда это открылось, Моисей хотел застрелить сына "из поганого ружья", но передумал.
Всякий раз как отец останавливался на загоне, отставляя косу или плуг и сворачивая цигарку, Федор рысью бежал в ближайшую балочку покурить, для вида развязывая учкур на штанах, мол, нужда подпирает. Если Моисей замечал, что у Федьки нет табаку, он пересылал ему с погонычем мальчишкой или бабой своих корешков, а то клал табак на видном месте и уходил подальше. Так же поступал и Федор, но глотать при родителях дым травы, выросшей на могиле б...., совестился - ведь так можно и ускорить конец света, а он и так не за горами.
Дедушка Моисей зачем-то остановил быков, постоял, подымил и опять поехал. Может, вспомнил детство, когда побывал в горском плену, из которого выручила царственной красоты тетка Маришка, ставшая татаркой (татарами и Магометами казаки называли всех горцев и азиатов).
Раз пахали станичники тут, на Толстом бугре. Динь-дон, динь-дон тревожно зазвонил в станице колокол, приближались немирные горцы. Казаки живо поскакали вниз, а дед Моисея решил пройти еще круг, пока подъедут дальние пахари, да просчитался. Вылетели горцы из Третьей балки прямо на них. Деда сбили в борозду, отстегали плетками, а малолетку погоныча Моисея, как сидел на ярме, угнали в плен вместе с быками. Попал казачонок к хорошему татарину. Кормили, говорил, сытно - лепешки кукурузные, кислое молоко, бараньи потроха. Но дюже измывались татарчата над пятилетним казаком. И обувки хозяин не давал. Пас овец по снегу босым. Назначили за него выкуп - мерку серебра - примерно пятьсот рублей. Корова в те поры стоила пять рублей, женщина - семьсот, девушка нетронутая - тысячу. Года через два попался на глаза Моисей пожилой красивой татарке, заговорившей с ним по-русски. Она обняла худого, забитого, грязною мальчонку и заплакала. И недели через две Моисея вернули в станицу. Вырос он крепким, здоровым, только пальцы на ногах отпали, и он рано завел костыль.
При дележе угодий он получил косогор, где водились лисы, и на границе с татарами - красную рощу, в вечную родовую собственность. Косогор с весны покрывался алыми лазориками. Летом под ним травостой в рост человека от множества родничков. Зимой в снегах краснели ягоды шиповника. А в роще резали камыш на крышу, рубили оранжевый ивняк на плетни и сапетки, корчевали на дрова матерые пни. Пашни у казаков менялись каждый год, по жребию. Во дворе Синенкиных был минеральный родник, нарзан. В нем поили скотину, пили воду сами, месили на ней тесто. Царь выкупил такие родники у казаков, но только те, что возле "курса". К у р с о м называли часть станицы, ставшую со временем городом; там снимали квартиры приезжающие лечиться; от них казаки услыхали выражение "курс лечения" и использовали его на свой лад. Синенкиным поживиться не пришлось. Но жили не бедно. В хате две горницы. В одной помещались все четырнадцать душ семьи, другую, чистую, сдавали приезжающим лечиться господам. Исподники уже носили, а утирались, умывшись, мешками да парусами - брезентами для сушки зерна. Один ученый постоялец забыл у Синенкиных очки. Моисея бог не обидел глазами, но те очки он носил по праздникам для смеха. С годами семья поредела, пустив новые ростки. Моисей жил с бабкой, считался еще при силе и продолжал хозяиновать.
Спуск кончился. Тормоза убрали. Колеса тонули в пыли степной дороги. Дремалось на вздрагивающем двухвостом возу, стянутом посередке цепью и укрутками. Сзади Федора тихо сидела дочь, пятнадцатилетняя Маруська, уставшая в лесу до ломоты в теле. За возом трусил кобель.
Днем в золотых и сизых балках казаки валили топорами дубы, орешник, бучину. Перекуривать некогда. Пока стянешь с горы беремя, только и успеешь припасть на миг ртом к ледяному роднику, и опять вверх, на кручу. Обед скорый, без разносолов: сало с хлебом или тюря - в чашку набирают воды, крошат туда сухарей, луку, брызгают десяток золотистых монеток постного масла, солят и хлебают щербатыми ложками. Кавказ замирился давно, но случалось, в горах пошаливали стремительные, укутанные в башлыки всадники - пропадали охотники, дровосеки, скотина. Нет места для засад лучше гор: курганы, поросшие дубняком и кислицей-облепихой, узкие, темные ущелья, нависшие скалы - глухие волчьи и звездные владения. Станичники приезжали сюда с оружием, не в одиночку, спешно рубили лес и торопились в станицу засветло, крестились на каменные придорожные кресты - памятники зарезанным почтальонам.
Проехали шумную Каменушку, напоив коней и быков. Показались беленые казачьи мазанки. Кони и быки прибавили шагу - к кормушкам и кускам соли-лизунца. Наконец Моисей свернул в проулок.
- Кум, дай курну, аж ухи опухли! - просит Федор у поравнявшегося с ним казака. На лету поймал окурок в ладонь, жадно затянулся, пряча огонек в рукав. Маруська, подражая матери, деланно закашлялась.
Скрипящие возы разъезжались. Во дворах распахивались плетеные ворота. Казачки суетились у костров. На треногих таганках кипели котлы с кулешом, на сковородках вздувались румяными нарывами пышки. Федор слез с воза, размял ноги, бросил кнут семилетнему Федьке. Маруська торопливо ополоснулась у колодезя, схватила краюху хлеба и горсть чернослива из ведра, побежала на улицу, откуда неслась голосистая девичья песня.