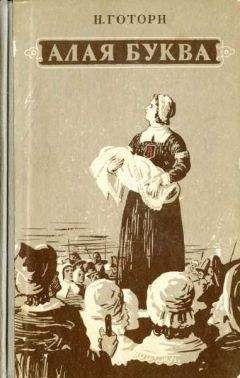Хотя как в юности, так и в зрелые годы, мне случалось надолго уезжать из старого Салема, моего родного города, все же я сохраняю - или сохранял - к нему привязанность, силу которой мог по-настоящему осознать лишь когда не жил в нем. Что и говорить, плоская, унылая местность, застроенная преимущественно деревянными домами, в общем даже и не претендующими на архитектурные красоты, неправильная планировка, в которой нет ничего живописного или оригинального, лениво растянувшаяся по всему полуострову длинная и сонная улица, одним концом упирающаяся в городскую тюрьму и холм с виселицей, а другим в богадельню, - словом, весь внешний вид города, где я родился, может внушить не больше нежных чувств, чем доска с беспорядочно разбросанными шашками. И все же, хотя в других городах я неизменно был счастливее, к старому Салему у меня сохранилось чувство, которое, за неимением более точного слова, я принужден назвать привязанностью. Возможно, оно объясняется тем, что моя семья издавна пустила в эту почву глубокие корни. Почти два с четвертью столетия протекли с тех пор, как некий британец - первый из эмигрантов, чье имя я ношу, - появился в окруженном лесами глухом поселке, ставшем впоследствии городом. Там жили и умирали его потомки, смешивая свой земной прах с почвой, так что немалая ее доля стала сродни той бренной оболочке, в которой мне дано еще некоторое время ходить по салемским улицам. Таким образом, пристрастие, испытываемое мною, отчасти является бессознательной симпатией праха к праху. Немногие из моих земляков могут понять это, и оно, пожалуй, к лучшему, ибо частая перемена места, по-видимому, лишь совершенствует породу.
Но есть для моей привязанности и некое моральное основание. Облик первого предка, которого семейные предания окружили неясным и сумрачным величием, жил в моем детском воображении с тех пор, как я себя помню. Он до сих пор преследует меня, и я испытываю к прошлому этого города некое влечение, которое отнюдь не распространяется на его настоящее. Мне чудится, что своим правом проживать в Салеме я обязан не столько самому себе, чьего лица почти никто не помнит, а имени не знает, сколько этому непреклонному, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу прародителю, который так давно появился здесь с библией в одной руке и шпагой в другой, так торжественно выступал по только что проложенной улице и был такой заметной фигурой в дни мира и войны. Он правил церковными делами и сочетал в себе воина, законодателя, судью. Все достоинства пуритан переплетались в нем со всеми их недостатками. Подобно им всем, он был фанатиком, и квакеры в своих воспоминаниях свидетельствуют о его непомерной суровости к одной женщине из их секты, - суровости, которую, боюсь, будут помнить дольше, чем любое из его многочисленных благих деяний. Сын унаследовал от отца дух фанатизма и сыграл столь заметную роль в преследовании ведьм, что кровь их, можно сказать, оставила на нем несмываемое пятно, которое, должно быть, до сих пор можно разглядеть на его старых сухих костях, скрытых в земле Чартер-стритского кладбища, если только они не рассыпались окончательно в прах. Мне неизвестно, успели ли мои предки раскаяться в своей жестокости и выпросить себе прощение у неба или же они до сих пор стонут в ином мире под тяжестью ее последствий. Так или иначе, я, пишущий эти строки, беру, в качестве их представителя, весь позор на себя и молю, чтобы отныне и вовеки на них не тяготело проклятие, хотя они его вполне заслужили, судя по тому, что нам известно о трудных и мрачных условиях существования тех давно минувших времен.
Однако эти строгие и угрюмые пуритане, несомненно, сочли бы вполне достаточным искуплением своих грехов то обстоятельство, что почтенный замшелый ствол их фамильного древа дал через столько лет на своей верхушке отросток в виде такого бездельника, как я. Цели, к которым я когда-либо стремился, показались бы им недостойными, а успехи - если в моей жизни, вне пределов домашнего круга, были какие-нибудь успехи - они сочли бы жалкими или даже постыдными. "Что он делает? - шепчет один седой призрак моего праотца другому. - Пишет романы! Что за занятие, что за способ прославлять творца или служить человечеству при жизни и после кончины! Просто непостижимо! С не меньшим основанием этот выродок мог бы сделаться уличным музыкантом!" Такими комплиментами награждают меня через пропасть столетий мои предки! Но как бы они на меня ни гневались, свойства их сильных натур проглядывают и в моем характере.
Тесно связанная с младенчеством и детством города этими ревностными и деятельными людьми, семья с тех пор жила здесь, сохраняя глубокую добропорядочность. Насколько мне известно, никогда ни один из ее членов не бросил на нее тени и вместе с тем не совершил - если не считать двух родоначальников - памятного или хотя бы приметного для его сограждан поступка. Напротив того, они постепенно начали исчезать из виду, как те старые дома на салемских улицах, которые до самых стрех уходят в землю, заносимые новыми слоями почвы. Почти сто лет все они, из поколения в поколение, были связаны с морем: седоголовый шкипер, отец семейства, возвращался из капитанской каюты к домашнему очагу, а его четырнадцатилетний сын занимал наследственное место на баке, грудью встречая соленую волну и шторм, которые неистовствовали так же, как во времена его деда и прадеда. Потом юноша, в свой черед, переходил с бака в капитанскую каюту и, бурно проведя свои лучшие годы в странствиях по свету, возвращался домой стареть, умирать и смешивать свой прах с родной почвой. Эта длительная связь семьи с местом, где рождались и кончали свой век все ее члены, создала между человеческими существами и городом какое-то сродство, не зависящее от привлекательности природы или жизненных условий. Тут дело не в любви, а в инстинкте. Если человек прибыл из других мест и даже если его отец или дед родились не в Салеме, он не может называться салемцем, ибо не имеет и представления об упрямой, поистине устричной привязанности старого поселенца, над которым ползет уже третье столетие, к месту, где, поколение за поколением, похоронены все его предки. Неважно, что город его не радует, что он устал от старых деревянных домов, грязи и пыли, от плоского пейзажа и плоских чувств, от леденящего восточного ветра и еще более леденящей атмосферы общественной жизни: все это, вместе с любыми недостатками, которые он видит или может себе представить, не имеет значения. Чары не исчезают и действуют так же сильно, как если бы родные места были земным раем. Так случилось и со мной. Словно какой-то высший долг повелевал мне обосноваться в Салеме, чтобы в течение положенного срока люди могли видеть и узнавать черты лица и характера, искони знакомые здесь всем, ибо стоило одному представителю лечь в могилу, как следующий, подобно дозорному, уже шагал по главной улице. Но само это ощущение свидетельствует о том, что пора, наконец, порвать ставшую вредной связь. Не только картофель, но и человек мельчает, если в продолжение многих поколений сажать и пересаживать его в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в других городах и, насколько это будет зависеть от меня, пустят корни в непривычной почве.
Лишь в силу этой непонятной, холодной и безрадостной привязанности я, распростившись со Старой Усадьбой, решил устроиться в кирпичном здании дяди Сэма, хотя с таким же или с большим успехом мог переехать куда угодно. Но рок тяготел надо мной. Я уезжал из Салема не раз и не два, уезжал, казалось, навеки, и все-таки возвращался, точно я был фальшивой монетой или Салем могучим притягательным центром моей вселенной. И вот в одно прекрасное утро я поднялся по гранитным ступеням, имея в кармане назначение, подписанное президентом, и был представлен штату джентльменов, которые должны были помочь мне нести тяжкую ответственность, возложенную на меня обязанностями главного надзирателя таможни.
Полагаю - вернее, убежден, - что ни у одного чиновника гражданского или военного ведомства Соединенных Штатов Америки не было в подчинении такого множества почтенных ветеранов, как у меня. Взглянув на них, я тотчас понял, где именно следует искать нашего старейшего гражданина. За последние двадцать лет независимость положения главного сборщика пошлин салемской таможни была такова, что ему удавалось уберечь свое учреждение от водоворота случайностей политической жизни, делающих судьбу всякого должностного лица столь шаткой. Воин - самый прославленный воин Новой Англии, - он твердо стоял на пьедестале своих боевых заслуг и, охраняемый мудрой снисходительностью сменявших друг друга правительств, при которых ему пришлось служить, был щитом для подчиненных в часы нередких опасностей и тревог. Генерал Миллер был консервативен от природы. Привычка составляла основу его доброжелательной натуры. Он очень привязывался к людям, которых часто видел, и с трудом соглашался на перемены, даже когда они сулили несомненную пользу. Поэтому-то, вступив в должность, я увидел вокруг себя почти одних стариков. Большинство из них некогда были капитанами дальнего плавания и, избороздив множество морей, стойко выдержав житейские бури, причалили, наконец, к этой тихой гавани, где, не ведая никаких волнений, если не считать периодической паники перед президентскими выборами, получили как бы добавочный срок жизни. Не менее прочих смертных подверженные влиянию старости и болезней, они явно владели каким-то талисманом, державшим смерть на почтительном расстоянии. Несколько человек, страдавших, как меня заверили, подагрой, или ревматизмом, или просто старческой немощью, большую часть года даже и не появлялись в таможне; с окончанием зимней спячки они вылезали на майское или июньское солнышко и, апатично исполнив то, что называли своими обязанностями, снова, никого не спросясь, отправлялись в постель. Должен сознаться, что я грешен в сокращении срока таможенного существования нескольких престарелых слуг республики. По моему ходатайству им был предоставлен отдых от неусыпных трудов, и вскоре они отошли в лучший мир, так как ревностное служение отчизне было, по-видимому, единственным смыслом их жизни. Я утешаюсь благочестивой мыслью, что вследствие моего вмешательства у них осталось достаточно времени, чтобы раскаяться в дурных и бессовестных делах, которых, по общему мнению, не может не совершать таможенный чиновник. Ни парадный, ни черный ход таможни не ведут в рай.