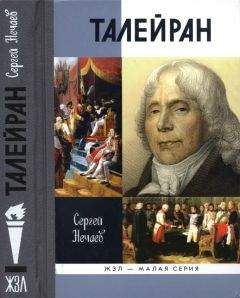Спал он в дороге всегда очень мало, часто просыпался, вскакивал по нескольку раз в ночь, вызывал замученного на всю жизнь секретаря Менневаля, диктовал ему, снова ложился и мгновенно засыпал. Письма Наполеона и из Парижа, и из разных стоянок - клад не только для историка, но и для психолога. Писал он в разных стилях; турецкому султану, персидскому шаху писал в стиле восточном, цветистом на «ты»: «Я властелин Запада, ты властелин Востока...», «Мы с тобой как правая рука и левая рука...» Разумеется, знал, что и зачем делает. Советы давал по существу, не цветистые, а весьма практические. Поднимал Восток то против России, то против Англии, иногда против обеих, посылал своих агентов за тридевять земель, сочинял или приказал сочинить какое-то «Письмо старика-турка к своим собратьям». Хотел управлять Востоком. Прежде собирался восстановить еврейское царство и объявить себя еще и иерусалимским королем. Наполеон находился на небывалой в истории вершине успеха и, видимо, терял в уме границу между возможным и невозможным. «Невозможно? Да разве то, что я уже сделал, было возможно!»
По дороге в Эрфурт он, вероятно, о Востоке не думал. Но, как всегда, думал о политике и войне целый день и большую часть ночи. Так и говорил: «Я всегда думаю, всегда». Больше всего, верно, думал о России, о царе, о том, чего надо теперь потребовать. Рассчитывал только на себя. Взял с собой много людей - и никому из них не верил. Допускал, что все его при случае предадут или уже предают. Самым умным из советников был Талейран, но его он считал вором и изменником. Не далее, как через месяц вдруг в Тюильри в присутствии многих людей устроил ему дикую сцену. При общем гробовом молчании в ярости кричал ему на весь зал: «Вы вор, обманщик и подлец! Вы продали всех, продали бы родного отца!.. Разве не вы погубим того несчастного (разумел герцога Энгиенского)? Это вы мне указали, где он находится, это вы требовали его казни!..» И уж совсем, по-видимому, в невменяемом состоянии, перешел к непристойным словам и сообщил Талейрану (который, впрочем, отлично это знал), что его, Талейрана, жена находится в связи с герцогом Сан-Карлосом{1}.
Не верил он и Александру I, хотя и говорил, что часы, проведенные с ним в Тильзите, были «лучшими часами его жизни». Царь писал своей сестре: «Бонапарт уверяет (prétende), что я дурак. Хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последний». Откуда он взял это предположение? Ни в письмах Наполеона, ни в воспоминаниях о нем я такого отзыва о царе не встречал. Напротив, он признавал Александра умным и хитрым человеком, хотя и лишенным твердой воли и не надежным. Говорил, что царь «самый тонкий из них всех» (то есть из европейских монархов). До знакомства с Александром I Наполеон, как все, считал его «мистиком». В Тильзите, где они познакомились и вели долгие разговоры не только о политике, был изумлен: какой мистик! «Он говорит о религии, но он материалист, настоящий материалист!» Такого определения «коронованного Гамлета» не давал, кажется, никто ни в России, ни за границей. Между тем Наполеон знал царя отлично.
России же он, естественно, не знал. Иногда называл ее «химерой». Знал только, что она очень могущественна и богата («О богатствах России никто не имеет понятия», - говорил он и на острове Святой Елены). Предполагал также, что она со временем будет владычествовать в мире. Обычных же пошлостей о русской душе не говорил.
Смеяться над «ame slave» в ее нынешнем иностранном понимании, с балалайками, Достоевским и княгинями Петрушками, так же банально, как обосновывать это понимание на западный манер. Я настоящую статью пишу с разными отступлениями и прошу это извинить. Скажу, что самое понимание «славянской души» было в ту пору совершенно не такое, как теперь, хотя и не менее нелепое. В девятнадцатом веке на Западе считалось, что особенность русской души - это ее всеобъединяющее и примиряющее начало. Русские - самый единый и согласный народ на свете. Высшего своего распространения эта идея достигла в конце столетия -в пору франко-русских торжеств, последовавших за памятным приходом во Францию русской эскадры. Обе страны тогда влюбились одна в другую. Как писал великий ученый Пастер, французский народ «открыл русскому и свои объятия, и свою душу». Виконт де Вогюэ, один из главных творцов «славянской души» в ее первом издании, в своей речи на нашумевшем банкете и разъяснил эту особенность русской души. Мало того, что ее магическое начало царит в самой России, - оно объединяет своим появлением и другие страны. Забавно то, что русские люди, по крайней мере многие, признали, что французы совершенно правильно определили основное начало русской души. «Оно, - писал С. С. Татищев (а ему, казалось бы, знать), - именно заключается в нашем национальном свойстве собирать и соединять разъединенное».
Наполеон совершенно не верил в объединяющее начало русской души. Он даже порою собирался использовать ее разъединяющее начало. Окончательного плана не было и у него. Через много лет он говорил, что война с Россией возникла в 1812 году случайно. Да он и до этой войны, в апреле 1811 года, писал вюртембергскому королю: «Война разыграется вопреки мне, вопреки императору Александру, вопреки интересам Франции и России. Я уже не раз был свидетелем этому». Слова поистине поразительные. Однако, каковы бы ни были его колебания, общая идея у него была и, как известно, заключалась в установлении его власти над всей Европой (что тогда почти означало: над всем миром). Свою идею он считал прогрессивной и не раз говорил, что его диктатура, осуществлявшаяся без особенной жестокости и, во всяком случае, без террора, его единая европейская империя с гражданским равноправием, с общим для всех стран законодательством, с отменой границ и с разоружением, была гораздо высшей государственной формой, чем феодальный деспотизм отсталых европейских монархий. На острове Св. Елены он говорил, что собирался после победы над Россией образовать под своей властью европейскую федерацию, где человек любой национальности чувствовал бы себя дома, полноправным гражданином, где бы он ни жил - в Париже ж или в Москве, Берлине, Вене, Риме. Не было бы никаких границ, везде действовали бы одни и те же законы, и применялся бы Наполеонов кодекс. Произошло бы всеобщее разоружение, нигде не было бы армий, кроме небольших вооруженных сил, необходимых для поддержания порядка. Говорил даже, что тотчас после того, как начал бы понемногу гладко работать этот колоссальный механизм, он сам положил бы конец своей диктатуре, а его сын, достигнув совершеннолетия, стал бы еще при его жизни и под его руководством конституционным монархом Европы. Конечно, все это было будущее время или сослагательное наклонение.
Как ни странно, совершенно точного плана он не имел для Эрфурта. Ближайшей его задачей было окончательно отделить Россию от Австрии и Пруссии. По некоторым данным, он собирался в Эрфурте объявить себя «Императором Запада». Однако разговора об этом не поднял. Собирался прельщать партнеров своим порядком и при случае запугивать их возможностью якобинской революции в их собственных странах. Эту революцию он и в самом деле считал очень возможной. В молодости видел ее вблизи - на ней и вышел в люди. В 1808 году о ней везде все позабыли. Немец Рейхгарт, проживший при Наполеоне одну зиму в Париже, говорит, что революции точно никогда и не бывало: о ней парижане помнят только как «о времени, когда не было дров». Другой наблюдатель, очевидно, любивший статистику, замечает: быть может, один француз из десяти действительно хотел всего того, что произошло в стране, но теперь во Франции не найдется и тысячи человек, желавших свержения наполеоновского строя. Сам император держался другого мнения. Он о революции помнил. До конца своего правления имел много секретных агентов среди якобинцев и платил им огромные деньги. Разумеется, всех, кого можно было подкупить или соблазнить, подкупал и соблазнял. Среди ближайших к нему людей при его дворе были и бывшие цареубийцы, и бывшие эмигранты из Кобленца. Иностранные наблюдатели изумлялись: как эти люди могут не только уживаться, но и поддерживать между собой дружеские отношения. «Только он один мог этого добиться!» Талейран, бывший придворный Людовика XVI и бывший революционер, чрезвычайно это одобрял: одних простит революция, другие простят революцию.
В сущности, главная из многочисленных политических мыслей Наполеона заключалась в том, что мир непрочен, чрезвычайно непрочен, что его должно укрепить, что это главная задача государственного человека. Вдобавок он был убежден, что править можно только «в ботфортах со шпорами». Но ботфорты имел в виду не общедоступные: имел в виду свою военную славу.
Незачем, конечно, теперь расценивать «наполеоновскую идею». Чего бы она ни стоила сама по себе, ее, в пределах человеческого предвиденья, навсегда погубили последовавшие глупые или чудовищные пародии. Сам Наполеон был убежден, что не было другого выхода из хаоса якобинской революции. Он был ее сыном, но и отцеубийцей. Для него якобинцы были тем, чем (без «родства») были, скажем, для Бисмарка социалисты. Чаще всего идея «непрочности мира» в XIX веке выливалась именно в форму борьбы против социализма, связанной с политическими репрессиями. Единственная форма, с репрессиями почти не связанная, это малоизвестная, никаких последствий не имевшая попытка австрийского канцлера графа Бейста ответить на создание Первого Интернационала созданием культурного контринтернационала, который должен был объединить церкви, университеты, либеральную «еврейскую» печать и т. д. Граф Бейст именно с Бисмарком первым своей идеей и поделился. Бисмарк, хотя Бейста терпеть не мог, сначала пришел в восторг, но потом поостыл.