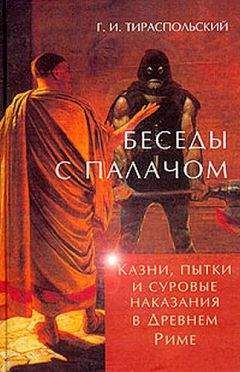При всем том, однако, в этой сфере, и в частности в приведенном примере, действуют факторы, к общественным закономерностям прямо несводимые: вкусовые предпочтения, складывавшиеся исподволь, на протяжении всей жизни под влиянием самых разных, подчас неуловимых и глубоко личных обстоятельств; стремление организовать окружающий микромир именно так, а не иначе, по-своему, тем инстинктивно утверждая ценности свои и своей микросреды; эмоциональное и обычно бессознательное отталкивание от ценностей, представляющихся чужими или даже враждебными. Такие мотивировки можно ощутить изнутри, сопережить, художественно выразить, но вряд ли можно их рационально, извне классифицировать и анализировать — для каждого, кто вышел за пределы их прямого, сложного и неуловимого воздействия, они просто перестают существовать.
Повседневный быт, таким образом, связан с историей общества и может быть использован как источник для ее изучения, и в то же время быт и общественно-историческая закономерность располагаются в разных уровнях общественной действительности и общественного сознания, и один не может быть прямо использован для характеристики другой. Существует настоятельная необходимость найти выход из этого противоречия, вызванная внутренним развитием исторической науки.
Всякое теоретическое знание предполагает отвлечение от бесконечной живой подвижности и многогранности познаваемых объектов, тем самым — определенное их упрощение и обеднение[2].
Это цена, которую приходится платить за обнаружение внутренней сущности и внутренних связей предметов, за выявление общих абстрактных категорий, их объединяющих. Историческая наука сполна заплатила эту цену в первой половине нашего века, увлеченно создавая картину прошлого, в которой общество представало бы как система категорий — социально-экономических, социально-политических, идеологических — и, главное, которая бы этими категориями исчерпывалась. Развитие любой науки, однако, состоит в приближении теоретической схемы к истинной действительности, в том, чтобы теоретическое знание все меньше упрощало и обедняло объект, все полнее охватывая его в реальном многообразии сторон и оттенков[3].
Для историков это означает, что категории общественного развития рассматриваются все более конкретно, то есть в неразрывной связи с субъектом изучаемых изменений — живым человеком во всем многообразии условий его существования и мотивировок его поведения. Поэтому так много уделяется внимания в последнее время исторической социологии, культуре, социальной психологии. Историческая семантика бытовой повседневности стоит в том же ряду. Задача заключается в том, чтобы попытаться выявить ее особенности, позволяющие использовать бытовой материал при всей его специфике для исторических реконструкций; установить пределы, до которых такое использование допустимо; определить преимущества, в нем заключенные, и ограничить опасности, с ним связанные.
Для решения этой задачи, по-видимому, надо прежде всего установить, что именно в бытовых вещах — не в общетеоретическом плане, а непосредственно и осязаемо — образует их связь с общественными процессами. Такая связь существует, и обусловлена она одной важной особенностью бытового материала. У любого бытового факта помимо его практического значения есть еще некоторый смысл, этим значением не покрываемый. Когда герой шуточного стихотворения Пушкина "Женись" — "На ком?" — "На Вере Чацкой" — отказывается жениться на девушке потому, что в ее семье "орехи подают. Они в театре пиво пьют", то он полностью игнорирует прямое назначение орехов или пива — быть продуктом питания, лакомством, средством утоления жажды — и воспринимает их только с точки зрения, с этим прямым назначением никак не связанной: они приняты в социальном кругу, герою постороннем и его шокирующем, несут на себе печать, с его точки зрения, невоспитанности и мещанства.
По своей прямой функции предмет быта принадлежит сфере человеческой жизнедеятельности, ее практических предпосылок, ее рационализации, комфорта, удовлетворения жизненных потребностей: своим непокрываемым этой функцией остатком — общественной сфере и выражает принятые в ней нормы. Такой остаток, как известно, принято называть знаком, а его общественное содержание — знаковым. Когда в те же пушкинские годы Рылеев и его друзья устраивали свои знаменитые "русские завтраки", где подавались кислая капуста, ржаной хлеб и водка, то знаковое их содержание полностью преобладало над прагматическим. Важно было не утолить голод, а в годы немецкого засилья при дворе, в гвардии и в великосветском обществе продемонстрировать преданность простым русским народными вкусам[4].
Теория знаков, или семиотика, усиленно разрабатывалась — в частности, в изложенном выше плане — в 1960-е гг. Для тех лет, однако, она была главным образом новой, неожиданно открывшейся и увлекательной гносеологией культуры, общим принципом подхода к ней, научной атмосферой и позицией гораздо больше, чем инструментом исследования. Попытки применить ее к конкретному анализу, за пределами некоторых специальных областей, не оправдали многих пылких ожиданий. Сейчас все это позади, семиотика ушла из центра интересов, перестала быть открытием и модой, и пришло время использовать определенные отстоявшиеся ее положения в повседневной и прозаической исследовательской практике. Нас будут интересовать, в частности, три свойства знаковой семантики бытовых явлений, которые могут помочь в решении поставленной выше задачи.
Первое состоит в следующем: знаковая семантика бытовых явлений всегда исторична — как потому, что знак возникает из системы оппозиций, актуальных для данного, порой весьма краткого исторического периода, так и потому, что эти оппозиции часто строятся на противопоставлении того, что есть, тому, что было, то есть обращаются к общественной памяти. Справедливость первого из только что высказанных положений явствует из примеров, приведенных выше. Борода и армяк С.Т. Аксакова имели знаковый смысл лишь потому, что контрастировали с общеобязательными мундирами, фраками и бритыми лицами. Оденься человек так в середине XVII в. или в конце XIX в., и его внешность перестала бы быть контрастной по отношению к окружающей среде, тем самым — общественной характеристикой, тем самым — знаком. Точно также квас и капуста на рылеевских завтраках были знаком лишь потому, что воспринимались на контрастном фоне, где фигурировали "И трюфли, роскошь юных лет, // Французской кухни лучший цвет, // И Страсбурга пирог нетленный // Меж сыром лимбургским живым // И ананасом золотым".
Вне периода, когда этот контраст существовал, завтраки не имели бы знакового смысла, по крайней мере того, который вкладывали в них участники; период же этот был недолог и хронологически точен — пока длился дворянский этап русского освободительного движения со всеми его неповторимыми историческими особенностями. Диахронные оппозиции не менее важны для чтения знакового кода бытовых явлений, чем оппозиции синхронные. Столь модные в Западной Европе сегодня (или уже вчера?) эклектические интерьеры родились из совершенно определенной общественной ситуации 1950-1960-х гг. и именно в ней обретали свое знаковое содержание: подчиняясь моде на ультралевизну и шумный нигилизм, столь характерные для Запада тех лет, они демонстрировали непочтительность владельца к любой ясно выраженной культурно-стилевой традиции, иронию по отношению к ее академически респектабельной правильности, а тем самым — и к ее "тяжеловесной буржуазности".
Чтобы в этом убедиться, достаточно перелистать комплект "Art et Decoration" тех лет или вспомнить фильмы того же времени — хотя бы сцену в доме родителей Пьеро из "Затмения" Антониони. Но ведь сам этот знаковый код мог читаться лишь потому, что каждая вещь здесь вызывала прямые ассоциации с той или иной эпохой, "датировалась", и только человек, державший в памяти все многообразие исторических обликов европейской жизни, был в состоянии расслышать бесшабашную и все же чуть ностальгическую стилевую разноголосицу, заполнявшую подобные интерьеры.
На такой исторической памяти основано, в частности, и знаковое содержание театральных декораций — не тогда, когда они скрупулезно воспроизводят обстановку былых времен, а в тех случаях, где одна характерная деталь будит в зрителе ассоциации и ощущения, связанные с представленной в спектакле эпохой, вызывает ее обобщенный образ. В знаменитой постановке "Пляски смерти" Стриндберга в литовском Паневежисском театре художник установил на сцене массивный, "под камень", портал, на фоне которого шло действие. К фабуле пьесы он никакого отношения не имел, но, чуть суженный книзу и еле заметно расширенный кверху, со скругленными углами, он безошибочно вызывал представление об одной из самых типичных линий архитектуры модерна, а она уже раскрывала весь дремлющий в памяти зрителя запас ассоциаций с пластикой, образами, событиями — словом, с исторической атмосферой рубежа XIX и XX вв. ("Пляска смерти" написана в 1901 г.)