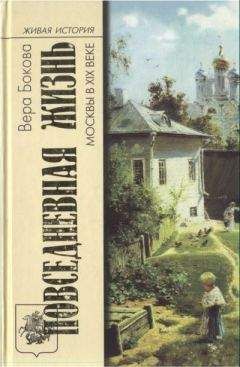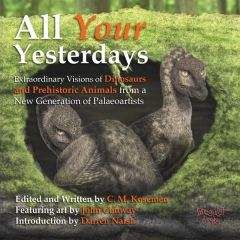Истинные москвичи были добродушны, безалаберны, многословны, недоверчивы, любопытны, любили лениться, много ели и не лазили за словом в карман. У всякого московского жителя было в запасе множество присловий, шуток, поговорок, уместных цитат и анекдотов, и с их помощью он с честью и без потерь выходил победителем из любого словесного поединка. Когда отливали новый колокол, весь город с увлечением морочил друг другу голову (по поверью, удачная ложь в это время придавала колокольной меди необходимую голосистость), и простаки толпами бегали смотреть, как «провалилась» Спасская башня или, к примеру, «уплыл» Большой Каменный мост. В городе не было ни одного урочища либо улицы, кои не имели бы фамильярно-ласкательных прозвищ, иногда вытеснявших исконное название — Мошок (Моховая), Землянка (Земляной вал), Воробьевка, Щипок, Полянки, Горки, Рвы, Пески, Роушки, Глинища… и бог весть что еще.
Просыпалась Москва рано. С рассветом начинали сновать по улицам фабричные, мастеровые, разносчики, мясники и булочники с корзинами и лотками на головах. Катили на рынки подводы с молоком, сеном, дровами, курами, битком набитыми в клетушки, раскачивались на колдобинах, стукались о тротуарные столбы — спешили. «Тут везли и продукты для населения: муку, мясо (зимой множество мороженых свиных туш), пиво, водку, дрова, и для строительства — кирпич, лес, известь, железо; а также фабричное сырье и товары: хлопок, шерсть, мануфактуру; последнюю с фабрик — в Китайгородские амбары… Эти обозы направлялись для „благообразия“ и порядка не по главным улицам (они береглись для легковой езды), а по обходным переулкам»[4].
Затем появлялись школяры со связками книжек, канцеляристы с бумагами, увязанными в платки. Прислуга, а иногда и сами заботливые хозяйки с кошелками устремлялись по лавкам и базарам за провизией. Оживлялась торговая Москва. В разных направлениях летели извозчики…
После одиннадцати выплывали на улицы светские дамы, отправлявшиеся на прогулку, в Ряды или с визитами. Следом за дамами появлялись те баловни судьбы, которые могли себя позволить жить, ничего не делая. «Позевывая, направляются они на бульвар для „моциона“ перед завтраком; или же в наполеоновской позе останавливаются группами в Солодовниковском пассаже в последней, самой широкой линии, самоуверенно осматривают проходящих, в особенности дам, и нередко заводят интрижку»[5].
Часа в два-три Москва обедала, потом отдыхала и движение на улицах замедлялось. Оживление наступало около семи часов вечера — вереницы экипажей устремлялись в театры, клубы, на вечера и балы. К полуночи это новое движение прекращалось и часов до двух-трех ночи наступала тишина. Кратковременное оживление наступало, когда праздная публика начинала разъезжаться по домам, а потом вновь наступала кратковременная тишина, которую часов в пять утра прерывали следовавшие по городским улицам ассенизационные обозы. Они и знаменовали собой наступающее новое утро.
Когда Москва вступала в девятнадцатый век, «вокруг Кремля… шел вал со рвом, в котором стояла дохлая, тинистая вода с разной падалью»[6], — вспоминал современник. Под кремлевскими стенами паслись обывательские козы, а на Каланчевку и в Миусы забегали зимней порою волки.
Еще стояли на своих местах все городские укрепления — не только Китайгородские, которым суждено будет простоять нерушимо весь девятнадцатый век и лишь обогатиться под конец дополнительными воротами в Третьяковском проезде, — но и валы Земляного города, и башни Белого. В заболоченных рвах росла осока, шмыгали головастики и орали по ночам забредшие с перепою и завязшие в грязи гуляки. На заросших травою склонах древних валов москвичи устраивали пикники, а в крепостных башнях по ночам прятались и таились темные личности. Границей Москвы с конца восемнадцатого века был Камер-Коллежский вал, и его валы тоже вносили в городской пейзаж собственные краски. Большая их часть заросла травой и кустарником, по самому гребню вилась тропинка, а местами валы «были полуразрушены пешеходами и местными обывателями, которые брали из них песок для своих надобностей»[7].
Еще свободно текли московские речки и ручьи — Чечора, Черногрязка, Синичка, Напрудная, Чарторый, Ольховец и бурная нравом Неглинная. На протяжении столетия многим из них предстояло навсегда спрятаться под землю, а тогда, в допожарные годы, в них купались, ловили рыбу и раков. Неглинная была частично распрямлена и обложена камнем; через нее были перекинуты мосты — Воскресенский, выводящий на Красную площадь, и Кузнецкий, давший название одноименной улице. Кузнецкий мост был каменный, с арками, и подниматься на него нужно было по лестнице ступеней в пятнадцать. На этих ступенях «сиживали нищие и торговки с моченым горохом, разварными яблоками и сосульками из сухарного теста с медом, сбитнем и медовым квасом, предметами лакомства прохожих»[8].
Город тонул в зелени, и многочисленные дворцы, общественные здания, монастыри и церкви «перемежались сельской местностью и деревнями»[9], как казалось заезжим иностранцам.
Действительно, за исключением центра, дома были в большинстве своем деревянные, часто с завалинками, совсем как на селе, мостовые — бревенчатые или из фашинника; лишь несколько главных улиц было кое-как замощено камнем. Улицы вились прихотливо, то сужаясь, то произвольно расширяясь, и часто превращались в тупики. Посреди мостовых красовались колодцы с высокими журавлями, куда хаживали за водой молодки с коромыслами… И прозвище «большая деревня» само собой просилось на язык всякого, даже любящего Москву.
В послепожарное время городские валы постепенно срыли, рвы засыпали. Неглинная частями убралась под землю. Под кремлевскими стенами на ее месте был разбит Александровский сад, а выше по течению — Неглинная улица и Цветной бульвар.
Отстроенная после пожара Москва изменила свой облик, но не характер, который не в силах были изменить никакие пожары.
И в середине века, как писал современник, «живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русскою нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! и все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, — Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая! как она любит украшать домы свои гербами, балконы позолотою, а вороты львами! (…) Мне необыкновенно нравятся эти отдельные красивые деревянные дома на скатах гор, в тени душистых сиреней и лип, а на берегу Москвы-реки деревянные лачужки, одна к другой прилепленные, нищета которых прикрывается роскошью зелени густо разросшихся берез и рябин. К этим лачужкам ведут переулочки, превращающиеся в тропинки, исчезающие под горой!»[10].
Это в Лондоне аристократы жили в Гросвеноре, дельцы — в Сити, ученые — в Блумсбери, художники — в Челси. В Москве ничего подобного не было. В отличие от других городов, где издавна существовало деление на престижные и непрестижные районы, Москва достаточно долго оставалась городом с социально-смешанным населением. Возле каждого храма были жилища духовенства. На всякой улице можно было встретить лавки, в которых не только торговали, но и жили лавочники. Рядом с вельможными палатами не так уж редко стояли неказистые домики мещан. Даже в сугубо купеческих, казалось бы, районах — в Замоскворечье и Китай-городе вовсе не редкостью были ни барские особняки, ни домишки ремесленников. До сих пор в Лаврушинском переулке в двух шагах от Третьяковской галереи можно видеть роскошные барские палаты Демидовых, а в торговом Китай-городе на Ильинке еще в середине девятнадцатого века стоял особняк дворян Воейковых, а на Никольской — один из дворцов графов Шереметевых.
Аристократ, поселившийся на Мясницкой в соседстве с «амбаром» лесоторговой фирмы, не считал свое местопребывание ни более ни менее престижным, чем какой-нибудь Сивцев Вражек Купец в равной степени свободно чувствовал себя и на Полянке, и в Дорогомилове. Жить далеко от места службы или от родни считалось в Москве почти нормой, а в жилище более всего ценились простор и дешевизна. Поэтому графиня Софья Андреевна Толстая, далеко не чуждая снобизма, не только не имела ничего против, но даже была очень довольна дешевой усадьбой в окруженных фабриками Хамовниках, а известный врач и издатель Павел Лукич Пикулин принимал всю литературную и интеллектуальную Москву в своем домике (он сохранился), выходящем на неавантажный, особенно в вечернюю пору, Петровский бульвар.
«Вы видите палаты вельможи подле мирной хижины ремесленника, которые не мешают друг другу, у каждого своя архитектура, свой масштаб жизни; ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти, но встречаете жизнь в каждом домике отдельно»[11], — писал московский бытописатель П. Вистенгоф.