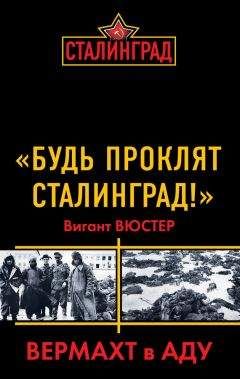- Еще бы, я буду тебе писать раз в неделю аккуратно.
- Вот и отлично!
- А если надоест быть одной, я приглашу к себе погостить Ваву.
- Вместе и на эскадру соберитесь. А уж как мы вас встретим, двух красавиц! - шутил адмирал.
Эта "Вава" была кузина адмиральши, цветущая, полная, миловидная и кокетливая вдовушка лет тридцати, с которой Нина Марковна была прежде очень дружна и часто с ней виделась. Но в последнее время между ними пробежала кошка. Адмиральша ревновала к ней Нику и перестала звать ее к себе.
- Однако, пора! - проговорил адмирал, поднимаясь из-за стола и взглядывая на часы.
Пришли доложить, что лошадь готова.
- Ну, прощай, Ниночка.
И адмирал почтительно и нежно поцеловал женину ручку, потом, по обыкновению, перекрестил жену три раза и уехал, хотя ему так хотелось провести день около Ниночки.
Адмиральша тотчас же ушла в кабинет и стала писать Скворцову.
Это первое, после разлуки, письмо на нескольких листках изящной почтовой бумаги, от которой шел тонкий запах духов, написанное порывисто и страстно за один присест, с многочисленными восклицательными знаками и орфографическими ошибками, говорило в несколько приподнятом тоне о любви, о тоске, о первой бессонной ночи (хотя адмиральша и спала эту ночь), во время которой дорогой образ Ники не покидал ее ни на минуту. Может ли он любить ее так сильно и ценит ли он ее любовь? Она вспоминала последнее их свидание наедине, заочно целовала его "милые глаза" и опять спрашивала, любит ли он свою Нину. "О, Ника, не забывай, что я для тебя всем пожертвовала и в первую минуту отчаяния готова была умереть", - писала, между прочим, Нина Марковна, почти уверенная в эту минуту, что валерьян мог лишить ее жизни. Письмо было смочено слезами.
Окончив свое послание, Нина Марковна вложила его в красивый из толстой бумаги конверт и задумалась, печально склонив свою хорошенькую головку.
Она думала о своем положении, о Нике, о Ванечке. Целый год одиночества и тоски. Целый длинный год не видать милого Ники и скрывать свою тоску, ради мужа. Трагическое положение! И ей казалось, что судьба к ней безжалостна и что она бесконечно несчастна. Она жалела себя, воображая, что она героиня-старадалица, жертвующая собой ради долга, и слезы снова текли по ее щекам.
Из открытого окна веяло ароматом цветов на террасе.
Кругом была тишина. "Как бы счастливо провели они лето с Никой вдвоем!"
И в воображении Нины Марковны проносились воспоминания о недавнем счастии, об этих свиданиях, об этих безумных, горячих ласках красавца Ники. И глаза ее загорались блеском, и пышные губы полураскрывались, точно для поцелуя...
Нет, она не может жить без Ники!..
В голове ее блеснула радостная мысль, и на лице появилась улыбка... Она воспользуется предложением Ванечки, конечно, не теперь - это было бы совсем неприлично - а осенью или зимой... Она поедет за границу. То-то обрадуется Ника, если она неожиданно, сюрпризом, приедет в Ниццу и вызовет его телеграммой... А, может быть, их крейсер будет где-нибудь долго стоять, она поселится вблизи, и они будут часто видеться.
Адмиральша замечталась об этом... Она не напишет ни слова о своем намерении Нике... ни за что. Пусть радость его будет неожиданная.
Повеселевшая, она сама пошла бросить письмо в ящик и, вернувшись, уселась на террасе с романом Поля Бурже в руках.
- Лейтенант Неглинный! - доложил вестовой из матросов Егор, одетый в черную пару.
- Просите сюда, - сказала адмиральша, оправляя прическу.
XVIII
Осторожно ступая своими длинными неуклюжими ногами и щуря близорукие голубые глаза, Неглинный, обещавший другу навещать адмиральшу, нерешительно и робко вошел на террасу и, отвешивая низкие поклоны, приблизился к адмиральше.
Нина Марковна знала, что этот "милый и смешной бука", как она шутя прозвала Неглинного, был преданным другом Ники, и, вероятно, вследствие того, тотчас же приняла сдержанно грустный и томный вид женщины с затаенным горем на душе, которое она должна скрывать от людей... Пусть Ника и от друга узнает, как она горюет.
Слегка кокетничая своим положением страдалицы, она с кроткой, приветливой и в то же время полугрустной улыбкой, которая очень шла к ней, промолвила тихим, ласковым голосом:
- Очень рада, что задумали навестить отшельницу. Это по-христиански. Спасибо вам, Василий Николаевич.
И, отложив в сторону маленький желтый томик французского романа, дружески протянула руку, значительно обнаженную из-под короткого полупрозрачного рукава.
Неглинный, в качестве большой "фефелы", был тронут и умилен видом этой "тихой скорби", воплощенной в образе очаровательной женщины, которую он прежде видел всегда живой, бойкой и веселой.
"Бедная! Как она изменилась!"
И словно бы боясь сделать больно этой маленькой, нежной, холеной ручке, блестевшей кольцами, он как-то особенно бережно и почтительно пожал ее в ответ на крепкое, по-английски, пожатие адмиральши и, смущенно и сердито отводя взгляд, нечаянно скользнувший по роскошному бюсту, словно облитому тонкой светлой тканью лифа с большим вырезом у ослепительно белой шеи, - торопливо и взволнованно проговорил, краснея до корней своих рыжих волос:
- Я давно собирался к вам, Нина Марковна, чтобы засвидетельствовать вам и Ивану Ивановичу свое глубочайшее почтение... ("Эка, как длинно и глупо!" пронеслось у него в голове)... Еще до отъезда вашего на дачу, я, собственно говоря, имел это намерение, но, к сожалению, экзамены помешали... Я лишь на днях окончил последний экзамен из астрономии...
"О, дурак! Какое ей дело до моих экзаменов!" - опять подумал Неглинный и, в отваге отчаяния, немилосердно теребя свою фуражку, оборвал свою речь вопросом:
- Как здоровье Ивана Ивановича?
- Ванечка здоров. Он только что уехал на свой корабль и обещал завтра приехать проститься...
- Завтра? - почему-то счел долгом переспросить Неглинный.
- Да. Послезавтра эскадра уходит, и я останусь одна, совершенно одна... Впрочем, мне не привыкать к одиночеству, - как бы мимоходом, вставила адмиральша. - А с вашей стороны очень мило, что вы, наконец, собрались... Очень мило... Садитесь, Василий Николаевич, снимайте свой кортик и кладите фуражку... Ведь вы, конечно, обедаете со мной? Надеюсь? - прибавила приветливо Нина Марковна.
Застенчивый вообще с женщинами и в особенности с теми, которые ему нравились, Неглинный обрадовался приглашению и в то же время малодушно трусил возможности остаться вдвоем с Ниной Марковной. А как ему хотелось побыть подольше около этой "страдалицы" и хоть своим присутствием несколько отвлечь ее от тяжелых дум ("Какой, однако, болван и бездушный эгоист Скворцов!"). Но разве он способен на это, дубина? О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях, как пень, и хлопать глазами. Он только наведет на нее скуку, если останется! Еще если бы был дома адмирал, ну тогда...
И, проклиная в душе свою "подлую" застенчивость, он проговорил:
- Я несказанно благодарен за ваше любезное предложение, Нина Марковна, но дело в том, что я, видите ли, рассчитывал...
- И не думайте отказываться, - перебила адмиральша, заметившая колебания своего гостя и знавшая его застенчивость. - Разве приезжают на дачу на четверть часа? Давайте-ка мне вашу фуражку и кортик.
Застенчиво и покорно, стараясь скрыть радостное волнение, Неглинный подал фуражку и кортик вместо того, чтобы самому положить их. Он спохватился о своей неловкости, когда уже адмиральша положила вещи на стол, и порывисто опустился на кресло против Нины Марковны.
- Теперь вы у меня в плену, Василий Николаевич... После обеда мы пойдем гулять, а затем я вас отпущу, если уж вы очень соскучитесь. Видите, какая я эгоистка с добрыми знакомыми! - прибавила адмиральша с очаровательной улыбкой, открывавшей ряд мелких жемчужных зубов, из которых, впрочем, пять было вставных.
"Обработка" Неглинного уже началась, помимо желания молодой женщины. Подавленный ее ласковым приемом, полный восторженного сочувствия к ее положению и восхищенный ее красотой, напомнившей ему вдруг неземную красоту "мадонны", - молодой, долговязый блондин решительно не знал, что ему ответить, и только благодарно и глупо улыбался и лицом, и глазами, и неистово крутил свой рыжий вихор тонкими длинными пальцами, точно в нем он хотел найти дар слова.
В его мягкой и нежной душе внезапно исчезло то чувство грустного разочарования и снисходительной жалости, которое заочно питал он к адмиральше, узнав об ее связи со Скворцовым, как к женщине, оскорбившей его идеальные верования в ее чистоту и добродетель. И он, напротив, считал себя теперь безмерно виноватым за то, что осмелился обвинять ее так поспешно, не взвесивши всех обстоятельств ("а еще математик"), и проникся к адмиральше восторженно-благоговейным чувством, окружив ее маленькую, изящную и подавленную горем фигурку ореолом незаслуженного несчастья и безвинного страдания. Бедная страдалица! Какая драма в ее сердце, навеки разбитом! Она и не знает, что Скворцов ее не любит... болван эдакий!