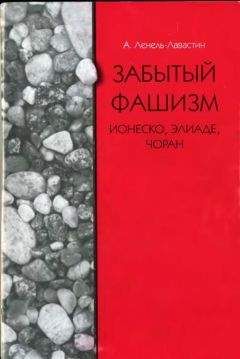У Сержа Московичи об этих годах, времени его бухарестского детства, сохранятся воспоминания, во многих отношениях схожие с воспоминаниями Ионеско. Подчеркивая роль интеллектуалов, их центров (laboratoires d’idées), университетов и церквей в распространении фашизма, роль, на его взгляд, недооцененную, Московичи отмечал: «Навязчивая идея вырождения, навязчивая идея упадка нации, навязчивая идея конца христианства стали частью повседневной жизни. Словно бы от этого зависели судьбы общества и судьба каждого его члена. Метафизики в темных речах прославляли инстинкты; мифоманьяки — архаические символизмы (прозрачный намек на Мирчу Элиаде. — Авт.); поэты ностальгировали по почве и смерти»[135]. Мы пытаемся воссоздать тогдашний климат, поскольку это позволяет понять, в какой степени в межвоенной Румынии националистская идеология превратилась в реалию повседневности И одновременно в некую господствующую идиому. Национальная идея стремилась подчинить себе все. Иными словами, политический дискурс испытывал колоссальные трудности в попытке приноровиться к своему объекту, вне зависимости от того, какая проблема подвергалась обсуждению — роль государства, реформа институтов, место Румынии в Европе. Конечно, на арене румынской культурной жизни сталкивалось множество групп — от либерал-модернистов, сторонников развития «в ногу» с Европой (Эуджен Ловинеску) и социал-демократов, впрочем весьма немногочисленных, до консерваторов и фашиствующих правых. Но главное состояло в том, что все они, за исключением мыслителей-марксистов, в конечном итоге оказались сторонниками одной идеи: идеи нации, присущих ей ценностей, ее «специфики», того, что может и что не может считаться совместимым с ее самобытной основой, или ее «сутью». При этом они придерживались по данным вопросам совершенно разных, порой прямо противоположных позиций. Этот список первоочередных вопросов выглядел чем-то вроде настоящей логической системы; его посылки в конце концов были приняты как само собой разумеющиеся, начиная с тезиса, утверждавшего существование бытия нации, или ее особого духа.
Как ни парадоксально, эпистемологическая монополия, приобретенная национальной проблематикой, не ускользнула от внимания Поля Морана во время его путешествий по Балканам в 30-е годы. Его замечания относительно румынской интеллигенции довольно проницательны: «Здесь, как и в других странах, я наблюдал сталкивающиеся или противоречащие друг другу течения. Меня поразило, что подавляющее большинство групп, если не все они, обладают собственной позицией по политическим вопросам, — писал он в 1935 г. в книге «Бухарест». — Умозрительные построения, абстракции их, кажется, не интересуют; я не обнаружил у них реальной склонности к религии или к метафизике; пути, ведущие к абсолюту, их не увлекают... даже такой знаменитый археолог, как г-н Парван, занимается правовым обоснованием румынского национализма, проникая в самое отдаленное прошлое расы; даже движение с религиозной направленностью, такое, как влиятельная группа Gândirea, которая при своем вожде, профессоре факультета теологии Н. Крайнике, ставило себе задачей стимулировать духовное возрождение Православной Церкви, скатилось в политический национализм и в расизм. Даже профессор общей философии и метафизики на литературном факультете Бухарестского университета, личность удивительная и несравненный ум, г-н Нае Ионеску, предается в своем журнале «Cuvântul» активной политической деятельности; его правой рукой выступает философ-индолог Мирча Элиаде». Моран проводит следующее сравнение с Францией: «Представьте себе г-на Маритэна, обращающегося к крестьянским массам, чтобы разбудить в них мощный национальный католицизм!»[136] Моран вернулся в Бухарест несколько лет спустя, в качестве посла вишистского правительства в Румынии.
Подобная насыщенность публичного дискурса, коллективного воображения и систем верований националистской риторикой отнюдь не означала, что в то время не имелось никаких иных вариантов культурного выбора. Доказательство противного существовало даже в рамках Молодого поколения; это была группа «Критерион», основанная в 1932 г., которая, по мнению Элиаде, явилась «одним из наиболее значительных и оригинальных коллективных выражений молодого поколения»[137]. «Критерион» организовывал в Бухаресте самые разнообразные лекции, пользовавшиеся большой популярностью. Именно на этих лекциях румынская публика впервые узнала о существовании французского экзистенциализма, услышала имена Кьеркегора и Хайдеггера. Лекции были посвящены также Фрейду, Ганди, А. Жиду, Ленину и даже Чарли Чаплину. Правда, последнюю — ее читал Михаил Себастьян — прервали громкие антисемитские выкрики из зала на тему «один еврей нам говорит о другом еврее». Крикунами руководил некто Бизерика (что по-румынски означает «церковь»). Организаторы лекции попытались уговорить его заставить его людей замолчать, вспоминает А. Палеолог. «Однако они были покорены его личностью. В конце концов, все пришли ко взаимному согласию и вступили в Железную гвардию»[138].
Социолог Генри Сталь, видный деятель Социологической школы Бухареста, основанной убежденным и последовательным рационалистом и социал-демократом Димитрием Густи (1880—1955), вспоминал в Румынии середины 80-х годов о постепенном заражении фашизмом членов «Критериона», к которой принадлежал и он сам. С чувством ностальгии Сталь воскрешал в памяти оживленные дискуссии в кафе «Корсо», где они собирались после лекций группами по 10—15 человек. Это происходило до тех пор, пока не проявилась «легионерская болезнь». Постепенно, рассказывал Сталь, Легион занял господствующее положение в наших спорах. Затем, постепенно, члены группы стали в него вступать: Мирча Элиаде, Константин Нойка, Михаил Полихрониад, Дан Ботта, Арсавир Актерян и прочие. Чоран вообще никогда не смешивался с критерионовцами; «он принадлежал к числу самых суровых и неукоснительных сторонников Легиона»[139]. В те времена Генри Сталь часто приводил с собой в кафе «Корсо» своего друга Ионеско. Поразительно, что, не имея сведений об истории возникновения «Носорога» (в коммунистической Румынии доступа к произведениям Ионеско не было), Сталь в середине 80-х годов выдвигал гипотезу, что идея этой книги должна была зародиться у драматурга под воздействием увиденного и услышанного тогда в группе «Критерион», где на его глазах совершался переход от свободной дискуссии к фанатизму. Именно таким образом, сокрушался социолог, в политическом и социальном отношении «все поколение кончило тем, что натянуло зеленую рубашку»[140].
Очевидно, все-таки это относилось не ко всему поколению. Помимо легионеров, среди его представителей были и марксисты, и либералы. В течение непродолжительного времени они еще сосуществовали в лоне «Критериона», но затем в группе создалась настолько враждебная атмосфера, что это привело к ее самороспуску в течение 1934 г. Как уточнял сам Себастьян в ходе лекции, прочитанной им несколько месяцев спустя, 21 марта 1935 г., в несравнимо более спокойной обстановке Бухарестского Французского института научных исследований, которым с 1932 г. руководил историк Альфонс Дюпрон[141], линией водораздела стала идея национальной специфики. Пути критерионовцев бесповоротно разошлись. «Между нами пролег разлом», — лаконично комментировал Мирча Элиаде.
Далее. Если даже Элиаде и Чоран открыто перешли на сторону Легионерского движения — что, учитывая их популярность, должно было способствовать вовлечению в эту самоубийственную авантюру многих молодых людей, — стоит задаться вопросом, в какой мере идеи Элиаде и Чорана распространились среди легионеров. В данном случае мы перефразируем положение, которое формулируется зачастую применительно к Хайдеггеру: «Если Хайдеггер был нацистом, то были ли нацисты хайдеггерианцами?» Этот полемический прием нацелен на то, чтобы вызвать улыбки и тем самым свести на нет саму суть поставленного вопроса. Применительно к нашему анализу, однако, все не так просто. Здесь возникает щекотливая проблема вечно подвижной границы между простым восприятием, так сказать, готовой идеологии и участием в разработке теоретических аспектов этой самой идеологии. Последнее относится к интеллектуалу и означает, что он ставит свои знания, аналитические способности, навыки, свою харизму на службу определенному движению. Кроме того, Железная гвардия существовала в условиях конкуренции: в 30-е годы ей противостояли другие группы, идеологии и программы которых носили не менее экстремистский и антисемитский характер. Как представляется, в случае Элиаде и Чорана на поставленный выше вопрос следует ответить утвердительно: обмен идеями был взаимным.